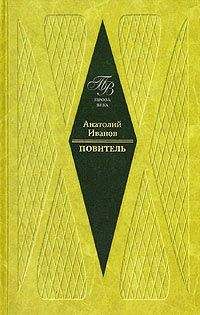И вот в пяти шагах перед ним стоит живой Лопатин, грязный, заросший, как зверь. Стоит и настороженно следит за каждым движением Григория, опустив руку в карман. Григорий знал: в кармане наган или нож.
Наконец Григорий проговорил еле слышно:
— Ну чего тебе? Может, есть хочешь? Так я сейчас, у меня осталось там, — и кивнул головой в ту сторону, где стояла одноконная бричка с погруженным в нее плугом и бороной.
Лопатин качнул головой, вынул руку из кармана.
— Не-ет!.. Не голоден. Добрые люди пока и кормят и поят. Иди сюда. Да иди же!
Григорию ничего не оставалось делать, как повиноваться…
Через минуту они сидели на траве, привалившись спинами к могучему сосновому стволу.
— А писали в газетах — убили тебя. А Зеркаловых расстреляли будто, — проговорил Григорий.
— Гордея в самом деле… царство ему небесное, — негромко говорил Лопатин, расчесывая пальцами бороду. — А Терентий сбежал, пока на расстрел вели. Ночь, говорит, больно темная была, помогло. А про меня, выходит, наврали. Правда, саданули меня в последнем бою из винтовки… Валялся где-то без сознания до вечера. Потом слышу: переворачивают с пуза на спину, говорят: «Бандюга Лопатин, отгулялся, сволочь… Зароем утром…» И ушли. А к утру-то я далече уполз… Врать они про нас мастера, — продолжал Лопатин. — А мы еще живем… Терентий приказ тебе дает…
— А?
Лопатин вздрогнул, по привычке рука скользнула вниз, к карману.
— Фу ты, черт! — глухо воскликнул он. — Чего орешь?
— Кто? Я? Я ничего, — пробормотал Григорий. — Разве орал? — Мысли его были где-то далеко.
— Терентий, говорю, приказывает насчет Веселова… Убрать его надо потихоньку, — вдруг сухо и строго сказал Лопатин. — Как сделаешь — твое дело. Терентий сказал: пусть не вздумает Гришка отказываться, пусть, говорит, вспомнит, куда нас отец его водил. Понял?
Григорий хотел крикнуть что есть мочи: «Сволочи! Оставите или нет меня в покое?» Но вместо этого выдавил из себя:
— П-понял… Чего там…
— Ну вот… Мое дело — приказ тебе передать. Потом пришлю надежного человека проверить.
— Ладно, — тем же безразличным голосом проговорил Григорий. Чувствовалось, что говорит он машинально, по-прежнему думая о чем-то своем. Лопатина насторожило это, он поспешно обернулся:
— Чего ладно?
— Ну… сделаю все.
— Вот так. А теперь пойду. Прощай пока.
Лопатин поднялся. Григорий остался сидеть неподвижно. Но едва Лопатин сделал первый шаг, как Григорий метнулся ему вслед, схватил за ноги и резко дернул к себе. Лопатин упал лицом вниз, ломая грудью торчащие в траве прошлогодние сухие дудки и стебли. И в то же мгновение крючковатые, заскорузлые от земли, точно железные, пальцы Григория впились в горло бывшего лавочника.
— Сволочь!.. — прохрипел Григорий в темноте. — Передай приказ лучше самому Гордею… на том свете…
В первую секунду Лопатин сумел перевернуться на спину, легко сбросив с себя в сторону Григория. Но, отлетев, Григорий не выпустил шеи. Сжимая ее, как клещами, он мигом очутился снова верхом на Лопатине. Тот хрипел, обеими руками пытался оторвать пальцы от своего горла. Поняв, что это ему не под силу, стал шарить у себя по карманам, выхватил нож и, почти не размахиваясь, ткнул им Григория в бок…
Но удар получился слабым. Лопатин уже почти задохнулся. Силы оставили его. Нож только скользнул по ребрам Бородина, не причинив ему особого вреда.
Страшная сила рук на этот раз пригодилась Григорию.
Домой Григорий вернулся далеко за полночь. Отпряг коня, зашел в свою комнату, снял рубаху, немного окровавленную, бросил ее под кровать и лег в постель. Рана в боку уже не чувствовалась. Но забылся сном только перед рассветом… И сейчас же приснилось, что в комнату кто-то вошел и полез под кровать. Григорий откинул одеяло, рывком поднялся и сел на постели.
На улице был давно день, в окна лился желтоватый солнечный свет.
В комнате стоял отец, ковыряя костылем выволоченную из-под кровати, перепачканную болотной тиной и кровью одежду Григория.
— Ты!.. Чего ты? — испуганно крикнул Григорий.
— Ничего, сынок… Кончил, что ли, посев?
Григорий в первую минуту ничего не мог ответить.
Уж слишком неожиданно прозвучал голос отца, как-то мягко, задумчиво, даже с нежностью.
— Ну… кончил, — наконец сказал Григорий растерянно.
— А это? — прежним голосом спросил его отец, тыкая костылем в одежду. — Откуда, думаю, опять болотом воняет в доме? Ишь все в земле перемазано. Смотрю — и впрямь ты не зря погрозился отцу недавно. Кости, что ль, откапывал цыганские? Куда понесешь их теперь? К Веселову?
— Замолчи ты! — громко вскрикнул Григорий, соскочил с кровати, ногой запихнул одежду на прежнее место и повернулся к отцу. — Какие кости я откапывал, чего плетешь?
— Ну, может, не откапывал… Может, наоборот, закапывал кого, тебе не впервой… Откуда кровь-то на пиджаке? И смотри-ка… На рубахе вон? Говори! — Старик поднял костыль, чуть не ткнув в бок Григория.
Григорий прикрыл локтем пораненное место. Петр усмехнулся, сел на табурет, поставил костыль между ног и положил на него обе руки.
— Ты, Гришуха, подлюга все-таки, — с обидой в голосе сказал Петр Бородин. — Кому грозил-то? Отцу… Не испугался я. Ведь мне и так помирать теперь… Но не прощу тебе обиды той, не прощу, дьявол, до самой смерти!!
И вдруг заплакал скупыми старческими слезами, вытирая их маленьким, сморщенным и сухим кулаком.
— Ведь я для кого старался? Кто думал, что оно так вот все… перевернется? А ты — отблагодарил батьку!.. А ежели я кой-чего расскажу про тебя? Ведь раздавит тебя Андрюха, как вошь на гребешке… Пиджак-то сгноил тогда…
Григорий сидел на кровати, вцепившись руками в край перины. Он был готов кинуться на отца, как бросился вчера на Лопатина, вцепиться в отцовское горло. И, может быть, сделал бы это, если бы отец сказал еще слово.
Но старик ничего не говорил, только смотрел на сына ненавидящими глазами.
В лесах, вокруг Локтей, на старых пожарищах, поросших высокими травами, на прогреваемых солнцем щетинистых увалах водится много лисиц. В поисках пищи они часто забредают в село, неслышно подкрадываются к курятникам.
Учуяв хищницу, налетают на нее собаки. Лисица бросается в спасительный лес, скатывается в нору, забивается в самый дальний угол, прижимается к земляным стенам дрожащим телом, пугливо поводя в темноте зеленоватыми глазами. Лежит в норе долго, иногда день, два, три… Потом осторожно, на брюхе, подползает к отверстию, нюхает воздух, осматривается по сторонам. И если не заметит опасности, выскакивает наружу и ныряет в чащобу.
Примерно так же вел себя Григорий Бородин. После разговора с отцом несколько дней не выходил из дому, настороженно следя за каждым его движением.
Старик разгадал его мысли, презрительно усмехнулся:
— Ладно, не бойся. Не выдам.
Странная, казалось Григорию, настала жизнь. Все вроде было по-старому. Весной мужики, как и в прошлые годы, ползали по склонам холмов за деревней, распахивали не совсем еще просохшие лопатинские и зеркаловские земли. Но, обмолотив урожай, везли зерно не в хозяйские амбары, а всяк себе. Это было необычным. Казалось: вот-вот явятся те, кому принадлежат земли, станут разъезжать от дома к дому, выгребая из глубоких дощатых сусеков звенящую, старательно провеянную пшеницу. Поднимется крик, вой, плач…
Но Григорий знал: уж кто-кто, а Лопатин-то не вернется…
Всю зиму выли свирепые метели. От мороза трещали стены домов, звенели под ветром жесткие, как железные прутья, ветви деревьев.
В сельсовете по вечерам собирались локтинские мужики, толковали о полыхавшей где-то войне.
— Ведь год назад свернули Колчаку голову… — высказывались мужики. — А война-то идет да идет…
— У нас Павел вон Туманов воюет, еще и другие… Может, кого в живых уже нет…
— Ты разъясни нам, Андрей, что и как. И когда оно все кончится?
Веселов тер ладонью чисто выбритый подбородок, прикуривая от стоящей на столе лампы толстую самокрутку, рассказывал:
— Колчаку свернули голову, верно… Да если в один Колчак был на свете! Много их, колчаков таких, много врагов у трудящегося народа… Недавно, в начале нынешней зимы, в Крыму придавили тамошнего Колчака, Врангеля по фамилии…
— Насмерть? — спросил кто-то из угла, куда не доставал слабый свет керосиновой лампы.
— Нет, убежать за море успел, гад, — ответил Андрей. — Кроме того, разные страны войска посылали против нас. Ну, знаете, говорил я вам, что перемололи мы их, остатки выперли обратно. Сейчас вот японцы еще цепляются за Дальний Восток. Но, по всему видать, уберутся скоро восвояси… Тогда, должно, и война кончится…
— Эх, скорей бы… Да еще хлебушек изымать перестали бы — как зажить можно! Ведь нынешний год опять, Андрей, выгребешь все у нас?
— Не все, а излишки, — строго поправил Веселов. И добавил сурово: — Коль понадобится — выгребу.