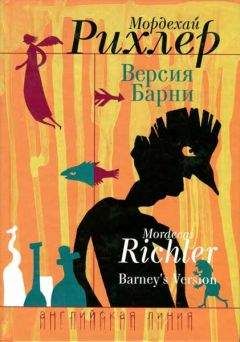— Н-ну да.
— Это у них теперь у всех в крови. Феминистки чертовы. Один раз поможешь ей вечером помыть посуду, и все: побежала учиться, диплом-шмиплом — глядь, ей уже какой-то шибко резвый штоссер[201] на круп копытами влез. Барни, нужны будут билеты на хоккей или бейсбол, я твой. Звони, сходим, вместе перекусим. Ну вот, здрасьте пожалуйста, начала! Бип, бип, бип!
Только это я допил и собрался ложиться, звонит Ирв Нусбаум, спрашивает, видел ли я последние сводки опросов общественного мнения по поводу референдума.
— Сползаем, — говорит.
— Ну. И что тут нового?
Оказывается, его это радует. Он предвкушает, аж на месте подсигивает.
— Вот помяни мое слово, со дня на день косяком пойдут антисемитские инциденты! Я это печенкой чувствую. Кошмар!
Ирв только что возвратился из поездки по Израилю — «Общее еврейское дело» устраивает такие туры всем кому не лень.
— Я познакомился там с парнем по фамилии Пински, так он говорит, что знал тебя еще в Париже, когда у тебя горшка не было, куда пописать. Говорит, вы вместе провернули-таки парочку гешефтов. Если это так, бьюсь об заклад, что они не были очень уж кошерными.
— Они и не были. И как нынче Йоссель?
— Да ничего, крутит что-то такое с бриллиантами. Я наткнулся на него в «Океане», а это чуть не самый дорогой ресторан в Израиле. Он там накачивал шампанским какую-то новую русскую иммигрантку. Ничего такая поблядушечка. Кетцеле претца.[202] А потом уехал на «ягуаре» — значит, на жизнь зарабатывает. А! Вот: он еще велел спросить насчет какого-то парня, вашего с ним общего старого знакомого — какого-то Бигги или Бугги, я точно не помню, — мол, он тебе что, тоже такую же кучу денег должен, как и ему?
— У него какие-то известия есть от Буки?
— Да нет, говорит, получишь с него, как же! От мертвого осла уши. Дал мне свою визитку. Хочет с тобой связаться.
Спать я уже не мог. Мучила вина: ведь уже много лет я не пытаюсь связаться с Йосселем. Потому что он перестал быть нужным мне человеком? Неужто я в такое дерьмо превратился?
Черт! Черт! Черт! Знал бы заранее, что доживу до столь преклонного возраста (шестьдесят семь как-никак), предпочел бы заработать репутацию порядочного человека, джентльмена, а прослыл разбойником, который настриг бабла, производя телевизионный дрек. Быть бы мне таким, как Натан Боренштейн — вот действительно уважаемый человек! Врач-терапевт на пенсии доктор Боренштейн, которому теперь уже, наверное, под восемьдесят (божий одуванчик, как называет таких моя дочь Кейт), ходит согбенный, в трифокальных очках, и почти всегда об руку с маленькой среброволосой миссис Боренштейн, своей ровесницей. Купив абонемент во «Дворец искусств» на концерты симфонической музыки, я подгадал так, чтобы сидеть сразу за ними, и хотя место рядом со мной сейчас пустует, я все равно держу его — на всякий случай. Когда свет в зале меркнет, они с миссис Боренштейн берут друг дружку под ручку, этак спокойно, сдержанно, а позже он руку высвобождает, открывает партитуру, следит по ней, подсвечивая фонариком, и удовлетворенно кивает или кусает губы, смотря по ситуации. В последний раз я видел их обоих на премьере «Волшебной флейты» в исполнении монреальской оперной труппы. Как всегда, я ориентировался на Боренштейна — хлопал одновременно с ним и воздерживался тогда же, когда и он. Больше всего во «Дворце искусств» женщин, разодетых в пух и прах, увешанных бриллиантами и прошедших через ринопластику, облучение углекислотным лазером, липосакцию и пластику живота. А Морти Гершкович говорит, что нынче у них сплошь и рядом еще и соевое масло в грудях. Кусаешь такую за сосок и что имеешь? Увы! — заправку для салата.
Я об этих Боренштейнах повадился даже кое-какую информацию собирать. Говорят, она в последнее время стала плохо видеть, так он ей после обеда читает вслух. У них трое детей. Старший сын доктор, работает в организации «Врачи без границ», ездит по Африке — туда, где больше искусанных мухами детишек со вздутыми животами. Еще у них дочь скрипачка в Симфоническом оркестре Торонто и сын физик где-то в Израиле — ммм — нет, не в Тель-Авиве, в другом каком-то городе. И не в Иерусалиме. В институте чего-то в городе каком-то — но не в Тель-Авиве и не в Иерусалиме. Вот вертится ведь прямо на языке. На «Г» начинается. «Институт Герцля»? [Институт Вейцмана в Реховоте. — Прим. Майкла Панофски.] Нет. Но что-то в этом роде. Да какая разница?
Однажды после концерта во «Дворце искусств» я осмелился подойти к Боренштейнам. Дело было уже на улице, они вышли и стояли в нерешительности. Дождь как из ведра. Гром. Молнии. Такая летняя мгновенная гроза.
— Простите, что вмешиваюсь, доктор, — начал я, — но я как раз иду на стоянку за машиной. Можно я предложу подвезти вас?
— Ну, мы были бы очень благодарны вам, мистер…
— Панофски. Барни Панофски.
Тут, смотрю, миссис Боренштейн напряглась и схватила мужа за руку.
— У нас уже заказано такси, — пискнула она.
— Ах да, верно, — сказал он смущенно.
На первой странице этой обреченной рукописи я намекнул уже — мол, из-за жуткой истории, что как горб будет преследовать меня до могилы, я стал отверженным. Но если уж быть до конца честным, то после того как меня оправдали и выпустили, некий особый круг мужчин начал проявлять ко мне повышенный интерес — этакие аристократы-англосаксы, от которых веет наследственными деньжищами; прежде они бы меня в упор не видели, а теперь наперебой ставят выпивку в отеле «Ритц»: «За ваш успех, Панофски!» А то еще подойдет, по плечу хлопнет и без приглашения — плюх! — ко мне за столик в «Бивер-клабе»: «По моему скромному мнению, вы такой урок им преподали — ы-ых! Всем этим добрым самаритянам». А потом еще и позовет присоединиться к полуденной игре в сквош в их элитной компании: «Причем я не единственный, кто у нас вами восхищается!»
Некоторые из их кичливых жен, прежде находившие меня несносным, грубым, мрачным и непривлекательным мужчиной, теперь в моем присутствии просто млеют. Начинают бесстыдно флиртовать, простив мне даже низкое происхождение. Вы только представьте! Аид, обнаруживший страсть к чему-то помимо денег! Настоящий убийца, который спокойно расхаживает среди нас! «Вы на меня не обижайтесь, Барни, но я всегда ассоциировала вашу нацию скорее с «преступностью белых воротничков», но уж никак не с такими делами, как — ну, вы понимаете». Я обнаружил, что эти женщины еще больше возбуждаются, когда я не очень-то и отрицаю, что совершил сие кошмарное злодеяние. В итоге я многое узнал о цивилизации наиболее богатой части Вестмаунта, о тамошних тревогах и заботах. Жена одного из партнеров адвокатской фирмы «Макдугал, Блэкстоун, Коури, Фрейм и Маруа» как-то пожаловалась: «Я, — говорит, — могу прийти в ресторан отеля "Ритц" голой, Ангус даже бровью не поведет. "Ты опаздываешь!" — вот все, что он мне скажет. Да, кстати: Ангус во вторник уезжает в Оттаву с ночевкой (если это, конечно, вам кстати), а я в такие дни запрещаю себе только одно — стандартную позу "мужчина сверху". О нестандартных я начитана. Как-никак вхожу в правление клуба "Книга месяца"!»
Зато уж для людей достойных я как был, так и остаюсь неприкасаемым. К счастью, в Монреале их не так уж много.
Каждое лето Боренштейны ездят в Стратфорд (тот, что в Онтарио) на шекспировский фестиваль, и я там как-то раз оказался в ресторане «Чёрч» неподалеку от них. Миссис Боренштейн то и дело краснела, и я готов поклясться, что старик, державший руку под столом, вовсю заигрывал с женщиной, на которой женат скоро полвека. Я подозвал официанта и попросил его послать им бутылку «дом периньон», но лишь после того как я уйду, и не говорить, откуда она взялась. Затем я вышел под дождь, до слез жалея себя и ругая Мириам, меня бросившую.
В большинстве своем люди, которых я знаю, мне не нравятся, но они мне далеко не так отвратительны, как Его Бесчестие Барни Панофски. Мириам это понимала. Однажды, после весьма характерного для меня приступа пьяной ярости, которая побуждала меня снова искать спасения в бутылке «макаллана», Мириам сказала:
— Ты ненавидишь телесериалы, которые сам же производишь, и презираешь чуть не каждого, кто у тебя в них занят. Почему бы тебе не послать их к черту, пока ты не заработал рак?
— И чем мне тогда заняться? Мне еще нет пятидесяти!
— Открой книжный магазин.
— Как же я тогда смогу позволить себе гаванские сигары и коньяк V.S.O.P. или Х.О.? И мы тогда не сможем ездить первым классом в Европу. И не сможем оплатить хорошее образование детей. И, наконец, мы ничего не сможем им оставить!
— Я не хочу на склоне лет оказаться лицом к лицу со злобным старцем, жалеющим о впустую растраченной жизни.
Ну вот, в конце концов и не оказалась — все верно! Зато теперь растрачивает собственную жизнь на герра доктора профессора Спаси-Кита, великого защитника тюленей и агитатора за подтирочную бумагу непременно из макулатуры; на Хоппера, который раньше был Гауптманом и отбросил вторую «н» на конце настоящей фамилии, чтобы людям труднее было проследить его родственную связь с бандитом, убившим ребенка Линдбергов, а может быть, и с Адольфом Эйхманом, если как следует порыться в генеалогии.