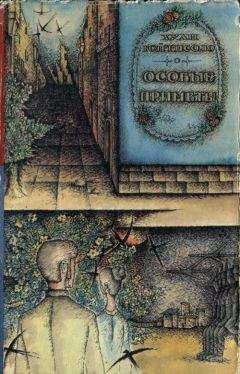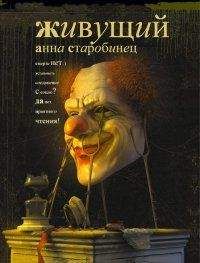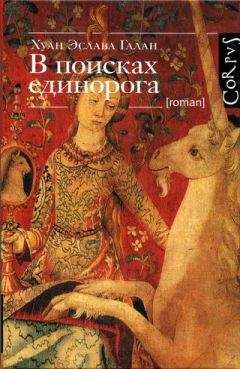— Только из Калабардины уехало больше десяти человек. Молодые не могут прожить морем. Как только мне выправят бумаги, я в тот же день вскочу в первый попавшийся поезд, и ноги моей здесь больше не будет.
— А что отец говорит?
— Отец стар и смирился. Но я не хочу пропадать здесь, как он. Не найду работы в Барселоне — уеду за границу.
— А в армии отслужил?
— Нет, мне в марте срок. — Парнишка помолчал несколько секунд. — Если у вас есть знакомый хозяин за границей, черкните ему несколько слов. Напишите, может, ему нужны люди. Через два года я буду свободен и готов делать все, что потребуется.
Огибая мыс, они заметили вдалеке посреди синего моря тупоносые и черные рыболовецкие суда, вышедшие на ловлю тунца. Сын Таранто греб, и с каждым взмахом весел лодка резко подавалась вперед. Голосом, срывающимся от возмущения, юноша рассказал, что несколько шахтеров на Эль-Канталь наняли «сеат» и хотели поехать в Гамбург, но на германской границе власти Федеративной Республики не разрешили им въезд, потому что бумаги были не в порядке. Хозяин машины, видно, был в сговоре с таможенниками, потому что его тут же и след простыл.
— По четыре тысячи песет с носу — и вернуться с пустыми руками. Таких типов я называю кровопийцами.
— Почему же они не заявили на него?
— У этих субчиков всегда найдется рука, и ничего ты ему не сделаешь… Если б такое случилось со мной, я бы его прямо на месте вздул, как собаку.
Пробковые поплавки указывали, где расставлены сети, и когда лодка подошла ближе, люди на судах привставали посмотреть и, приветствуя их, поднимали руки. Это были многострадальные рыбаки андалузского побережья; люди со смуглой кожей и морщинистыми, как старая шкура, лицами; на них не было ни зюйдвесток, ни резиновых сапог, одеты они были в те же лохмотья, какие носили их отцы, но из-под беретов и широкополых шляп лица их всегда улыбались приветливо и мягко.
— Нам повезло, — сказал парнишка. — Вроде они собираются сниматься с якоря.
На передовом судне капитан — голова и плечи прикрыты мешковиной — изучал море, склонившись над стеклянным глазком. Рыбаки выжидали, и по знаку капитана корабельная прислуга стала поднимать заслоны, сети. Ища дорогу назад в Атлантический океан, — дорогу, которую им преграждала земля — тунцы заплывали в камеры сети и, пытаясь спастись, попадали из секции в секцию, а затем оказывались в самой последней — в капкане. Пока рыбаки тянули из глубины сеть, парнишка подгреб к самому борту и помог Долорес подняться на капитанское судно.
Таранто, Хоселес и остальные рыбаки повторяли сцену, снятую на пленку почти четыре года назад, только они постарели и износились за это время; смерть уже подстерегала их и затуманила их черты своим дыханием, неопределенным, тайным и неясным, как и само существование этих людей. Долорес с Антонио стояли у борта; а рыбаки четкими быстрыми движениями выбирали огромную сеть и отбрасывали ее к противоположному борту, постепенно все ближе и ближе подвигаясь к капитану.
Антонио, задумавшись, смотрел на квадратную камеру смерти: по мере того как сеть поднималась, тунцы сбивались все теснее, метались как безумные и били по воде хвостом. Вода от этой бешеной карусели клокотала, точно закипая, и понемногу начинала окрашиваться в красный цвет. Рыбаки, не останавливаясь, выбирали сеть, и, когда показался последний отсек, плеск мечущихся в агонии рыб перекрыл гортанные крики людей и приказания капитана. Во время съемок фильма Альваро крупным планом снял Хоселеса, по пояс голого, и его лицо, выпачканное кровью тунца. Об этом вспомнил сам Хоселес, когда, сидя на плотно скатанной сети, они с Долорес курили. Наступал вечер, вызревший и ленивый; неожиданно земля и небо вспыхнули и заалели; багряными стали облака, хребты гор, печальные, разъеденные эрозией охряные цепи холмов. В воздухе разбегались колеблющиеся волны света, и небо на западе отсвечивало пожаром. В море, окрашенном кровью рыбы, багровело солнце, круглое, словно медная тарелка.
— Я вас сразу и не признал, — сказал Таранто. — Бороду отрастили?
— Отпустил.
— Если бы не сеньорита с вами, я б подумал, вы — немец. — Таранто смущенно улыбнулся. — Мы дома вас часто вспоминаем, жена все говорит: видно, он про нас забыл.
— Друзей не забывают, — ответил Антонио.
— Мне говорили, что видели вас в селении, но я не поверил… Если Антонио здесь, подумал я, он обязательно придет повидаться…
— Ну, а ты как?
— У бедняка всегда одно. Работа да нужда, нужда да работа. За этим делом и не заметим, как помрем.
Мужчины, управившись с сетями, окружили их и стали расспрашивать, как Альваро и что с фильмом. Насколько Антонио понял, они знали, что он в ссылке: Хромой, ласково хлопнув его по спине, внимательно оглядел и заверил, что с ним еще хорошо обошлись.
— Кто?
— Ваши задушевные друзья.
— Я бы этого не сказал.
— Отдых за государственный счет — вам ли жаловаться. Уверен, многие бы позавидовали.
— Я бы предпочел ходить с вами в море, — ответил Антонио.
— Море! — удивился Хромой. — Да мы не знаем, какого оно цвета, это море. Чтобы увидеть его, надо приехать сюда туристом.
Разговор был все тот же, и те же голоса, и те же слова, те же горькие сетования на жизнь, прожитую без пользы и без надежды, — даже если их час когда-нибудь настанет, кто воскресит мертвых? Потом, возвращаясь в Калабардину, рыбаки отпускали шутки по адресу Пузатого — единственного среди них толстяка — и подтрунивали над Андалузцем, который был не в духе и, сидя на носу моторки, жевал хлеб, не замечая никого вокруг.
— Грустит — жене его черед пришел. Она в эти дни его знать не хочет.
— Точно. Моя свояченица подслушала вчера их разговор.
— Когда жене не до него, он ухлестывает за каждой юбкой.
— Уж лучше за юбкой, чем за штанами.
— Поосторожней на поворотах. — Хоселес показал на Долорес.
— Заткнись и не приставай!
Когда они добрались до Калабардины, были уже сумерки. Селение вышло встречать их. Дети, старики, женщины и просто зеваки, столпившись у пристани, с явным разочарованием следили за приготовлениями к разгрузке. «Всего ничего, — сказал капитан. — Только сорок арроб».
Антонио хотел было сразу же вернуться в селение, но Таранто настоял, и им пришлось пойти к нему. Без маскарадного убранства солнечных лучей ужасающая нищета юга представала во всей жестокости, и когда, уже сидя в доме, они снова завели разговор, Антонио охватила тоска — неясное, но мучительное ощущение, будто он забыл нечто крайне важное, будто совершил какую-то непоправимую и страшную ошибку. Стемнело, в домах стали зажигаться первые коптилки; на берегу словно тени скользили рыбаки. Двое жандармов с фонарями обходили побережье. Долорес казалась удрученной не меньше Антонио, и, когда они стали прощаться с семейством Таранто, Антонио неловко вынул из кармана ассигнацию, и Таранто, должно быть сознавая, что его час никогда не придет, взял бумажку. Прощаясь за руку, они на мгновение отважились посмотреть друг другу в глаза, и Антонио почувствовал, как оба они покраснели.
Возвращение было печальным. Ни Долорес, ни он не могли бы толком выразить своих чувств; обмякнув за рулем, Долорес вела машину, нервничая и вздрагивая на каждой выбоине, каждой рытвине, каждом ухабе. Дважды дорожный патруль спрашивал у них документы на машину; посветив электрическим фонариком, капрал узнал Антонио и спросил, как улов.
— Поторапливайтесь, — добавил он. — Вам не положено гулять так поздно.
— Лейтенант позволил.
— Если что случится — виноватыми окажемся мы. А нам отвечать за все не хочется.
Пока они сидели и ужинали на террасе курзала у самой воды, Антонио рассказывал Долорес, что болтали о нем в Барселоне: один из арестованных, осужденный на семь лет на основании собственных признаний, уверял, что Антонио якобы тоже признался и даже выдал товарищей, и, несмотря на полное отсутствие доказательств и абсурдность обвинения, некоторые друзья из его же группы советовали сторониться Антонио. «Тюрьма — как тяжелая болезнь, — заключил Антонио. — Раз ты побывал в тюрьме, тебя сторонятся, как заразы».
— Я бы хотела быть тебе чем-нибудь полезной.
— Единственно, что ты можешь для меня сделать, — это переспать со мною.
— Если бы ты сказал это всерьез, я бы так и сделала.
— Ты потрясающая женщина, — ответил Антонио.
Он взял ее горячую руку в свои и прижался к ней губами.
— Не обращай внимания, — сказал он. — Это была шутка.
Суббота, 16-е. В 14.35 Горилла приезжает в Барселону, идет в мастерские «Орион» и несколько минут спустя выходит вместе с Лапой. Они идут в бар «Лас-Антильас» и минут через 10 возвращаются в мастерские. Через четверть часа Горилла выходит вместе с человеком, которого обозначим Ламбретто, некоторое время они разговаривают у входа в пассаж Перманейер. Затем они берут такси и едут в бар «Пичи», где их ожидает Синий. В 20 часов они расходятся. Горилла едет трамваем до вокзала, и в 22.10 в последний раз его видят около дома Сойки.