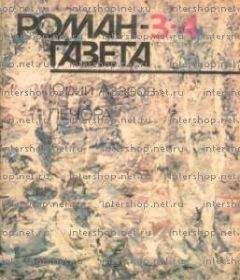В знак протеста объявил Аввакум голодовку, десять дней не ел, да товарищи велели принимать пищу. А однажды к его темнице подъехал сам царь. Расспрашивал у стражников, как ведет себя протопоп. Посочувствовал, а не зашел к Аввакуму. И протопоп по этому поводу скажет в своем «Житии»: «Жаль ему меня было». — Как же это понять? — спрашиваю я. — Невероятно, — шепчет Оля.
— А разве у Пушкина с царем не так было? — сказал Саша.
— Сравнил!
— Разницы никакой. Поэт только тогда поэт, когда он пророк. А протопоп и есть настоящий ПРОРОК!
— Это мысль! — поддержал я и прочел строки из Пушкина:
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык…
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
— А что? Сходится.
— Дело не во внешнем, — сказал я. — Аввакум был человеком необыкновенной души… Привыкли считать, что главная особенность Аввакума — неистовость, несгибаемость, а вот Света увидела в нем большую любящую душу. Душу нежную. И в этой нежности великая его сила. Мы прервем чтение сценария. И предоставим слово Светлане. — Я еще не написала свой сценарий и могу только зачитать материалы, которые удалось собрать. «Боярыня Морозова, девичья фамилия Соковнина, родилась в тысяча шестьсот тридцать втором году. В тысяча шестьсот сорок девятом году семнадцатилетняя Феодосья Соковнина была отдана замуж за боярина Глеба Морозова. В тридцать лет боярына овдовела, то есть в тысяча шестьсот шестьдесят втором году. В тысяча шестьсот семьдесят первом году Морозова была арестована, заметьте, в этом же году был казнен Степан Разин».
— А при чем здесь Разин? — спросил Надбавцев Саша. — Какая связь?
— Поясню, — спокойно ответила Света. — Я прочла тут несколько книжек, Мордовцева в том числе, был такой писатель-историк, и нашла интересные факты.
— Какие?
— А такие, что есть прямая связь Морозовой, Разина и даже Никона…
— Например?
— Слушайте. Боярыню знала вся Москва. Когда выезжала ее золоченая карета, запряженная двенадцатью белыми аргамаками, в сопровождении двухсот-трехсот разряженных холопов, вся Москва высыпала, сам царь дивился ее выезду, низко кланялся, а уж бояре да князья, так те на месте застывали, почтение свое великой боярыне выказывали. Всякий нищий мог подойти к окну боярской кареты, и белая ручка боярыни опускала нищим либо алтын, либо денежку, а из другого окна страшная, жилистая грязная рука какого-нибудь юродивого раздавала медяки, и шествие продолжалось часами, останавливалось, юродивые представление давали — мог боярыню видеть и Разин, должен был видеть ее, великую красавицу, чье имя тогда у всех на устах было… То, что нити шли от Аввакума и Никона (да, да, именно так!) к Разину, — это сущая правда! Никогда еще Россия так не горела огнем духовных исканий, как в этом семнадцатом бунташном веке. Россия пылала от костров, на которых сгорали жаждущие духовного обновления. Сжигали себя семьями, деревнями. Петр появился не случайно. Он был необходим, чтобы прекратился этот зловещий апофеоз смерти. История не знала такого массового отречения от жизни. Такой жажды истинности. Я нисколечко не удивилась, когда узнала о тайном- духовном единении Разина и Морозовой. У меня никакого нет сомнения в том, что Аввакум причастен к казаческим бунтам. Вот здесь написано, — и она прочитала из толстой книги: — «Вслед за собором тысяча шестьсот шестьдесят седьмого года Досифей, игумен Никольского Беседного монастыря близ Тихвина, бежал вместе с иноком Корнелием на Дон и пробыл там три года».
— Ну и что? — спросила тихо Соня. — Что это доказывает?
— Подождите. И Аввакум и Морозова были связаны с вольными людьми на Дону. Этот Досифей был духовным отцом многих раскольников, это он постриг боярыню Морозову и причастил ее сына Ивана Глебовича, Я думаю, что писатель Мордовцев близок к истине, когда утверждает, что Разин бывал в Москве, встречался и с Никоном, и с Морозовой. Вот некоторые мои зарисовки:
Никон. Я рад тебя видеть, Степан. Что у вас на Дону слышно?
Разин. О московском настроении ходят слухи. На тебя-де, великого патриарха, гонение неправое от бояр.
Никон. И то правда. Боярам я поперек горла стал — не давал им воли, так они на меня наплели великому государю многие сплетни, и оттого у меня с Алексеем Михайловичем на многие годы остуда учинилась. Я сшел с патриаршества, дабы великий государь гнев свой утолил, а они без меня пуще распаляли сердце государево. Теперь меня хотят судить попы, да чернецы, да епископы! Дети собираются судить отца! А у меня один судья — Бог! Теперь я стал притчею во языцех: бояре надо мной издевки творят, мое имя ни во что не ставят, из Москвы и из святых московских церквей меня, великого патриарха, выгоняют, как оглашенного, ни меня до царя не допускают, ни царя до меня. Враги мои, не зная под собой страха, играют святостью, кощунствуют. Вон теперь Семенко Стрешнев что чинит: научил своего пса сидеть на задних лапах, а передними — благословлять!
Разин. Собаку? Благословлять?
Никон. И называет эту собаку Никоном-патриархом. Когда соберутся у него гости, он зовет пса и кричит: «Никонко, пойди благослови бояр…»
Разин. Тряхнуть надо Москву за такое надругательство! Бояре хуже басурман. Мы с них сдерем шкуру на зипуны казакам, а то у нас на Дону голытьба, худые казаки, давно обносились.
Никон. Теперь хотят судить меня судом вселенских патриархов. Я суда не отметаюсь! Токмо за что судить меня? Я сам по доброй воле сошел с престола, боясь гнева царева да боярских козней. Садись, Степан, что ты встал?
Разин. Пойду в Соловки ныне же, чтобы к весне на Дон воротиться. А твое благословение на Дон будет?
Никон. Я Дон благословляю иконою.
Разин. А что мы казацкою думою надумаем — и то благословишь?
Никон. Благословлю. По тебе сужу, что донские казаки не сути рабы ленивые. У тебя, Степан, я вижу, на душе горе есть. Кто виною печали твоей?
Разин. Те же, что и твоей, владыко святой.
Светлана замолчала. В классе было тихо. Чернов не выдержал тишины, сказал:
— Дальше что?
— А дальше у меня наброски, — сказала Света.
— Пусть прочтет, — предложил Валерий.
— Однажды в июльскую ночь тысяча шестьсот семьдесят первого года Морозова с сестрой Акин-фией тайно принесли Степану Разину крест и чистую сорочку.
— Не могу пустить к нему, — сказал им охранник. — Знаю, что по заповеди блаженного протопопа Аввакума надо бы узничку утешение духовное - преподать, по слову Христа Спасителя: «заключенных посетите». Утром передам ему все, что ты принесла, боярыня, а пустить к нему — ни боже мой!
В это время из нижнего окна приказа, из-за железной с острыми зубьями решетки послышалось пение:
Не шуми ты, мати зелена дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати…
— Всесильный, спаси его, — тихо проговорила Морозова.
Песня мгновенно оборвалась. В окно выглянуло бледное лицо Разина.
И вот казнь.
Стенька смотрел в толпу, точно искал кого-то. На нем была чистая рубаха — подарок Морозовой.
Палач обхватил топорище обеими руками, занес топор над головой и ударил — левая рука Стеньки стукнулась об пол. Палач зашел с другой стороны, нацелился.
— Руби! — и правая нога отлетела. И вдруг глаза Степана Разина вспыхнули, и лицо его преобразилось счастьем. В толпе он увидел ее — то светлое видение, которое крестило его из окна, а ночью приходило к тюрьме с крестом и с белою сорочкою. Она глядела на него, осеняя крестом, и плакала. Сам он уже не мог перекреститься — нечем.
— Прощайте, православные! Прощай, святая душа, — крикнул он.
— О боже, всесильный и вечный! Сподоби мя таковых же мучений ради тебя, — прошептала Морозова, стоя в толпе рядом с сестрою Акинфеею в одежде чернички. А палач рубил 'тело Степана на куски, как рубят воловью тушу, и сподручники его втыкали эти кровавые куски на колья.
В день казни Стеньки, ночью, пришли и к Морозовой, пришли по ее душу по велению царя; власть теряла под собой почву; люди из боярских и купеческих семей, из мужичьих изб и из монастырских келий добровольно и с радостью шли умирать. Смерти во спасение жаждали женщины!
— Сподоби мя таковых же мучений!
…Вместо ножных желез сестер приковали за шеи к стульям-колодкам. Это была самая позорящая заковка — собачья. Морозова радовалась этой заковке и с благоговением поцеловала холодное железное огорлие цепи, когда стрелец Онисимко, трепеща, надевал ошейник, а ножные кандалы, сняв с ее махоньких «робячьих ножек», положил к себе за пазуху, чтобы потом повесить под образа и молиться на них. Непокорных сестер решили позорно, «с великим бесчестием» прокатить по Москве. Впереди колесницы-дровней провезли богатую карету Морозовой, в которой она езжала ко двору прежде, в сопровождении двухсот слуг, в карету, запряженную двенадцатью аргамаками в золоченой сбруе, с верховыми на каждой, посадили ее сына Иванушку: «Мамочка, мамочка, за что они тебя так?» А потом пытки.