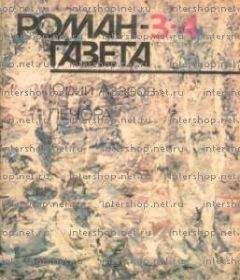— Неужто за одно словцо? — не выдержал я.
— Обязательно за одно словцо. Вы думаете, просто все было?
— А откуда же это словцо взять царю? Откуда же знать царю, кто какое словцо сказал?
— Понимаю, понимаю. Вот об этом есть у меня книжечка. История царских доносчиков. Знаете, что такое филёр?
— Что такое филёр?
— О, вы не знаете настоящей истории? Дам вам почитать. И историю царской тюрьмы вам покажу. В прошлый раз мы в другую крайность с вами ушли — в кавалергардский полк да в институт камер-юнкеров заглянули, а теперь уж в самый низ спустимся.
— Вас тоже контрасты интересуют?
— А кого еще интересуют контрасты? — повернул ко мне острое лицо с рыжими растопыренными бровищами.
— Да я уж так…
— Нет-нет, вы уж скажите, кого интересуют?
— Да я так… Был у меня университетский товарищ…
— И что же, он донес на вас или заложил кого?
— Откуда, вы это взяли? Просто был товарищ, который интересовался системой слежения.
— Такого слова в юриспруденции нет, — сказал Тарабрин.
— Ну не все ли равно, на каком языке сказать. Система слежки друг за другом. Как у Фуше, помните наполеоновские времена? Жульен следит за Маре, Маре за Клодом, Клод за Марианной, Марианна за Анри, Анри за Антуаном…
— Ну и что?
— Меня интересует один вопрос — замыкается ли круг или нет? То есть, следит ли первый человек, то есть Антуан за Жульеном?
— И если следит, то что?
— Тогда вся система держится на перекрещивающихся кругах.
— Ну и что?
— А то, что можно, если хорошо подрассчитать, оказаться в изолированных ромбиках, которые не охватываются кругами…
— Бред сивой кобылы! — сказал Тарабрин. — Есть еще поле. Инфейционное поле, которое всегда в радиусе слежения, как вы удачно выразились. И ромбики в поле зрения всех пересекающихся кругов. К тому же круги не стоят на месте. Они вращаются. Клод не, просто следит за Марианной, он кружится вокруг ее ног, головы, нижнего и верхнего бюста, и Марианна кружится вокруг себя, вокруг своих тайн, вокруг Клода и прочее, и прочее. Таким образом, сцепления здесь основаны на особых законах притяжения, как Солнечная система, как мироздание. Я бы вам предложил познакомиться вот с этой книжкой. Вы владеете французским?
— Мог бы прочесть.
— Тема этой книжки — психология страха и предательства. Плюсы и минусы страха и предательства.
— Вы считаете, что у этих двух начал есть свои плюсы и минусы?
— Не я так считаю. Человечество так считает.
Страх нужен всем: ребенку, старику, женщине, государству, предприятию. Страх излечивает от многих вещей: от самомнения, жестокости, правонарушения, вседозволенности. Страх — это бальзам жизни. Одна капля — и мгновенно меняется структура личности. Страх — это то нормализующее н тонизирующее средство, которым должно опыляться все живое.
— А предательство?
— Предательство — это почва, на которой взращивается страх.
— А не наоборот?
— Очень часто бывает и наоборот. Здесь все способно поменяться местами. А почему вас это интересует?
— Как вы знаете, я педагог…
— Ага, кого и как воспитывать?
— Это понятно, кого. А вот как быть с этими самыми свойствами, как излечить человечество от этих мерзопакостных качеств?
— Очередное заблуждение…
— Почему?
— Потому что вредно излечивать. Страх и предательство — стимуляторы человеческого здоровья.
— Но это же безнравственно.
— А нравственность тоже продукт страха и предательства. Страх — это та глубина нравственных чувств, где навсегда оседает самое светлое человеческое побуждение.
— Вы меня разыгрываете?
— Конечно, разыгрываю, — сказал Тарабрин.
— По собственной инициативе или же?…
— По инициативе Клода и Марианны?
— Нет, нет, я не это хотел сказать.
— Я знаю, что вас мучит, — сказал Тарабрин, вставая. — Вы предали впервые. Не так ли?
Я смутился от неожиданного поворота разговора.
— Ну, конечно же, предали, — смягчился Тарабрин. — Ну-ка, вываливайте все начистоту…
— Сережа, — прокричали из соседней комнаты. — К тебе пришли.
Сыр-Бор поправил свой домашний пиджак и направился к выходу. Я последовал за ним.
— Я в следующий раз за книгами. Я пойду. Мне надо…
— Хорошо, хорошо, — согласился Тарабрин.
Я скатился с гулкой лестницы, выбежал в морозную темь и направился к освещенному магазину, вспомнив, что пригла. шен в гости.
На вечеринке у Толи Гера снова зацепил меня: — В самом деле, чего ты лезешь всюду с этими пьесами? Зачем тебе понадобилась Морозова? Говорят, она кое на кого смахивает.
Гера посмотрел на меня так, будто знал о моем разговоре с капитаном. Некто четвертый зашевелился в моей башке.
— А действительно, странный выбор: шуты, Морозова, кардиналы, карлики… — Это Алина.
— Поясни! — настаивал Толя. — Действительно, поясни!
— Поясню, — сказал я. — Я ставлю то, что способно детей задеть за живое, чтобы приоткрылся их собственный мир…
— Ну, ерунда! Боярыня Морозова способна приоткрыть чей-то мир, — это Гера. — Может быть, есть что-то другое?
Я смекнул: идет дознание — Клод следит за Марианной, Марианна за Анри, Анри за Жульеном — и круг замкнулся- Надо путать карты. Петлять — прыг в левый куст. Потом в правый! Потом назад. Потом снова в сторону.
— Я поясню, — повторил я. — Это, возможно, неинтересно. Но я поясню. В каждом из нас тысячи непрожитых жизней. Непрожитая жизнь шутов и кардиналов, герцогинь и потаскух, королей и лакеев, убийц и убиенных. В каждом из нас мечется, возможно, Гамлет и Полоний, мечется и страдает красавица Морозова… — я умышленно сказал «красавица», а не «боярыня», сказал и посмотрел на Геру, и он понял, какую Морозову я имел в виду, а я зажегся горячей злобностью к Гере и сказал: — Морозова убита, замучена, растоптана, но ее страдание, ее мука, пусть фанатичная, пусть гордая в своей безысходности, но должна заставить хоть как-то, хоть в чем-то повиниться перед самим собой. Если нет в человеке тоски по чужому бытию, по состраданию, — значит, нет и человека.
Они глядели на меня совсем непонятно: то ли враждебность, то ли недоумение было в их глазах. А я хотел своим иносказанием снять недоумение, чтобы одна враждебность осталась на их лицах. И я говорил о ней, о самой истинной идее, в которой сошлось все самое лучшее, что было на этой земле, сошлось, а затем уже воплотилось в образ, и этот образ постоянно пугал мещанина, постоянно тревожил его нутро, и этот мещанин делал все возможное, чтобы уничтожить и сам образ, и его идею.
Я говорил, и им совершенно понятно было, что я расписываю им вовсе не образ боярыни, а воссоздаю лик той Морозовой, которую они терзали на оцинкованной плоскости. Я говорил и о детях, о том, что их самопознание, их приближение к высотам культуры идет через собственное очищение, когда они через свой труд бок о бок с трудовым людом приближаются к пониманию великих человеческих ценностей. Я говорил, и откуда только слова прекрасные брались, и они молчали, тупо и косо молчали, будто их слова загипнотизировали.
— Ну, ладно, кончайте эту бодягу, — первым очнулся Толя. — Давайте по черепочке хлобыстнем.
Алина была в центре внимания, она выделялась всем: и строгостью одежды (такое коричневое изящное одеяние — не то костюм, не то платье, а у подбородка кремовые кружева и такие же кружева из-под разреза рукава, отчего кисти рук в особой утонченности плывут над столом), и раскатистым свободным смехом, и каким-то особым блеском. Блестела кожа, искрились глаза, алели глянцевито губы, щеки переливались всеми оттенками весенней розовости, ее зубы сверкали и рассыпали ажурную белизну — и от всего этого комната наполнялась особым струящимся ароматом, какой исходит только от необыкновенных, очень красивых женщин.
От её огня будто все зажглись. Зажглись и пропитались ее струящимся светом. И я зажегся, и захмелел, и растворился в ее лучах. И я понимал, что здесь произошло что-то обманное, поддельное, дьявольское. И этот струящийся аромат лишь приблизительно напоминал мне запах таинственной осма-нии, но захмелевшая душа не желала этого признать и рвалась к ней, сознавая где-то в самой глубине, что совершает предательство.
Власть ее аромата вдруг стала сильнее всех моих ценностей. И этого аромата столько наструилось, что комната наводнилась этим божественным раствором, в эту чудодейственную смесь уже без разбору сиганули и Гера, кряжистый и сухой, и Толя, несколько располневший и мокрый от пота, и я, не чувствующий ни жара, ни усталости, ни тоски.
Гера ринулся вплавь, как ловкий ватерполист, отбивая всех спиной — и отгораживая Алину от других и цепкими стальными ударами рук, и сильной спиной, и отпугивающей остротой глаз. Он кружился вокруг Алины в танце, лихо выделывая такие фигуры, при которых у меня все ёкало и щемило внутри, в особенности когда Гера выбрасывал ногу с полусогнутым коленом и ее тело с опрокинутой головой падало, однако успев согнуться и опуститься на Герину ногу, и в одно мгновение ее ножки складывались так ровненько и так гибко, точно были одно целое, и вмиг Гера тут же подымал партнершу и снова ее кружил, а потом бросал на другое колено, и она снова дарила ему свой свет и обдавала каскадами смеха, и искры от этих каскадов достигали стола.