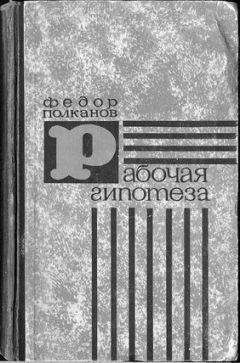– Не надейтесь на аудиенцию у академика-секретаря!
Именно на эту аудиенцию Громов надеялся – кто же, кроме академика-секретаря, может ему помочь? – однако решил поначалу не открывать свои карты.
– Ну зачем же? – сказал он. – Я рассчитываю выбраться на бережок уже с вашей помощью. Прежде всего нужно выяснить, почему именно меня топят. Вот что тонет. – Он протянул листочек с кратким описанием тем. – Согласитесь, что работам такого рода следует обеспечить непотопляемость.
Темы говорят за себя сами, да и Леонид не производит отпугивающего впечатления – не шумит, не бренчит регалиями: я, мол, вот кто, а вы кто такие? – и постепенно завязывается разговор, поднимаются протоколы, перерываются папки. Однако сами сотрудники отделения удивлены – причин отказа выявить так и не удается. И биоотделенцы отпускают Громову успокоительную пилюлю:
– Знаете что? Напишите заявление…
Ничего себе выход! Заявление полежит-полежит, потом двинется шажком по инстанциям, а тем временем прекратят финасировать темы, – нет уж, увольте!
– Обязательно напишу! – говорит Громов и тут же спрашивает: – К академику-секретарю сюда, этим вот коридорчиком?
Миновал коридорчик. Вот и приемная, однако попробуй пройди – в дверях насмерть стоит секретарша, девица с подведенными глазами.
– Сегодня – никого!
– Значит, завтра?
– Вас вызывали?
Сквозь помаду и пудру Леонид усматривает в ее лице сообразительность и серьезность – похоже, секретарша из тех, что не на словах, а на деле являются правой рукою начальника.
– Да, вызывали – примерно… Вызвали на смертный бой и даже нанесли недозволенный удар – под ложечку… Подскажите, будьте добры, как должны поступать ходоки от народа, жаждущие предстать перед очами? Можете вы мне уделить десять минут?
– Присаживайтесь.
Громов сел и рассказал горестную свою историю.
– Представляете – у референтов никаких следов! Что бы это могло означать?
– Очень просто. Раз референты не в курсе дела, значит – выше.
– Как выше? Неужели в президиуме?
– Нет, что вы! У нас, но не в аппарате, а в бюро отделения. Какие-то противоборствующие течения… Признайтесь откровенно: у вас есть враги?
– Враги? Гм… Слово, пожалуй, не то, но меня то и дело покусывает Краев.
– Краев? Ах, этот… Ну, Краев у нас давно не котируется. А кроме Краева?
– Больше никого, кто был бы вхож.
Секретарша думает секунду, потом решает:
– Придется включиться мне. Раз референты не обнаружили – займусь сама!
Не умилительно ли? Референты – сплошь кандидаты наук – не выяснили, теперь займется «сама», женщина с квалификацией стенографистки. И ведь раскопает, сомнений нет, раскопает! Не оставить ли при академике-секретаре только ее «саму»? Громов искренне признателен секретарше, но в то же время и зол. Будешь злым, когда работа находится под угрозой!
Прошло три томительных дня, прежде чем секретарша позвонила Леониду: «Можете приезжать». Громов поспешил. И как только пришел в биоотделение, сразу услышал:
– Титова знаете? Краевского дружка? Он! Никаких бумажек – результат дачного знакомства с… Впрочем, не важно с кем. Партия крокета располагает к проникновенным беседам. Академика винить не следует – ему напели… Посидите пятнадцать минут. Станислав Владимирович будет мне сейчас диктовать, и я попрошу его, чтоб он вас принял. Ему эту историю не рассказывайте: шеф не переносит никаких дрязг и любит разбираться лишь в сути научных проблем.
Секретарша, несомненно, человек дела – через пятнадцать минут она и впрямь приглашает Громова в кабинет.
Фундаментальный стол, портьеры и кресла, письменный прибор, нелепый в наш век, когда пишут все самописками, – вся дребедень разом уплывает куда-то, не задерживая ни на секунду внимания. Величественный, седовласый старик, восседающий за столом, уже своим обликом гасит всю канцелярщину, превращает ее в доподлинно научную обстановку. Он любезен и прост, подслеповатые глаза его с трудом проглядывают сквозь толщу очков, однако это не уменьшает впечатления от их проницательности.
– Против ваших тем выдвигаются веские аргументы… – Голос звучит твердо, но в то же время сочувственно.
Все, что он говорит, Леонид ожидал услышать: не по плечу размах, без тщательно обоснованной теории, без привлечения больших сил нечего и думать решить проблему… Спорить? С таким мнением можно спорить, но тут, в кабинете, начинать со споров не хочется – нужно выслушать до конца. А в конце Громов слышит вопрос:
– У вас группа? Сколько в ней теоретиков? В биологии теорию от эксперимента пока что четко отделить нельзя, но вы понимаете, о чем я хочу спросить.
– Да, понимаю… Теоретик один.
– Сколько экспериментаторов?
– Тоже один.
– Организаторов?
– Полтора.
– Гм… А сколько же всего человек в группе?
– Сейчас четыре, но до последнего времени вместе со мной было двое.
– Н-да! Маловато… Но, впрочем, не целыми же институтами вести разведку. Связь с физиками?
– Совместные работы. Есть и биохимик – прикомандирован.
– Так! Ну, что же… Желаю успехов!
И это – все. Академик взял карандаш, написал размашисто на принесенном Леонидом листочке: «Пересмотреть и включить в план. Доложить об исполнении».
Громов уходит, торжествуя победу, не понимая, почему она ему далась так легко. Неужели Станислав Владимирович уверовал в гипотезу, услышав лишь несколько фраз?
Но Станислав Владимирович в гипотезу и не думал вникать. В данном случае для него важна была не гипотеза, а ее создатель. Пришел младший научный сотрудник, который сколотил группу и замахивается на проблему проблем. Человек, явно сочетающий дар теоретика с даром организатора. Не из таких ли людей вырастают Курчатовы? Пусть даже из тысячи таких вырастет один – имеет смысл поддерживать тысячу!
Степан Михайлов написал теоретическую статью и, прежде чем показать ее Лихову, принес к Громову: смущала математика, тут Лихов ничем не смог бы помочь. Степан обнаружил на кривых смертности от лучевой болезни несколько пиков – в определенные дни после облучения гибло особенно много животных. Биология здесь была для Михайлова совершенно ясна: первый пик обусловлен шоками, второй – преимущественно поражением кишечника, третий – нарушением кроветворных органов, а четвертый – инфекциями. Но математика… Правильно ли он обработал материал?
– Пики смертности, говоришь? А ну, дай посмотреть!
Громов берет у Степана рукопись и углубляется в чтение.
– Гм… Пики смертности…
Комната на Таганке преобразилась до неузнаваемости. Нет буфета, совмещавшего столь долго две должности. Нет «девичьей» кровати Громова, нет и дивана. Два низких лежалища – пружинные матрацы на ножках, что ли? – да полки, современнейший орнамент из книжных полок. Лишь пианино сохранилось из старых вещей, но оно блестит как-то по-новому. Возле письменного стола углубился в рукопись вполне современный Громов, а на одном из «лежалищ», поджав под себя ножки, сидит Елизавета, современнейшая Афродита спортивного покроя, рыжая, курносая, колючая, недомашняя. Коса собрана теперь на затылке в узел, а так все такая же, как была до замужества.
– Гм… Пики смертности… – Громов роется в картотеке, а Елизавета беседует со Степаном:
– Твой мил-дружок, знаешь, что он у меня тут вытворяет? Просыпается ночью, зажигает торшер, не вставая, берет карандаш и ну разрисовывать новехонькие обои лебедиными шеями интегралов.
Видишь ли, для памяти записал – чтоб не заспать… Уж я терла, терла резинкою…
Наконец встает Громов:
– Сегодня, Степа, я тебе ничего не скажу. Нужно провести как следует расшифровку кривых. Тут у тебя, извини, кустарщина.
– Право, мне неудобно, ведь адский труд…
– Есть на то вычислительные машины… И потом: для меня, быть может, пики твои будут играть большую роль, чем для тебя самого. Ведь если ты прав, все, над чем бьемся мы с Лизой, относится ко второму и третьему пику, все лиховское – к четвертому. С тех пор как радиобиология стала точной наукой, к таким заключениям следует относиться с полным вниманием. Это не домыслы – математика!.. Ну, а сегодня… Сбренчи, Степик, нам что-либо.
Степан сел к пианино. Преобразившаяся комната, радиобиология, которая ныне сродни математике, – все это, видимо, на него повлияло: он «сбренчал» такой ультрамодерн, что Громовы, когда кончил он, попросили:
– Нельзя ли какого-нибудь «устаревшего» композитора? Ну, скажем, Чайковского или Бетховена…
– Поговорим о жизни?
– В каком смысле?
– В том, что ты у меня пентюх.
– Мило…
– То ли дело Степка! И швец, и жнец, и на дуде, обратно ж, игрец…
– Зато графики прибегает считать ко мне.
– Вот-вот! Не один ты такой пентюх, мода ныне пошла на теоретиков-пентюхов, так называемых людей одной страсти.