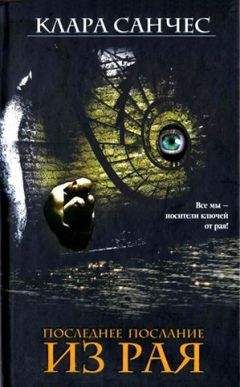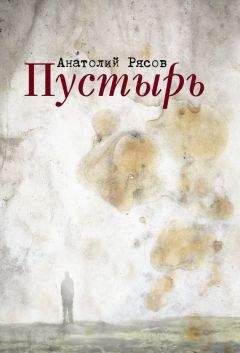– Сундуки, наполненные драгоценностями, и чемоданы, набитые деньгами.
– Ты романтик.
Это уже четвертый человек, от которого я слышу такие слова, но впервые от мужчины.
– Что вы имеете в виду, когда говорите «романтик»? – спрашиваю я.
– Это тот, кто думает, что сокровища нужно искать в далеких местах и что они должны блестеть. И что только любовь имеет отношение к тому, что человек чувствует, но не к тому, что он думает, и не к тому, чего желает.
Он берет меня за руку.
– У тебя хорошая память?
– Думаю, нормальная, – отвечаю я.
– Слушай меня внимательно. Я хочу, чтобы ты запомнил один код. Сможешь? – (Тут мне приходит в голову, что это второй человек после Эдуардо, который хочет поручить мне хранить что-то.) – Если со мной что-нибудь случится, если оправдаются мои страхи, что не так невероятно, как тебе кажется, обратись вот в этот Женевский банк, хорошо?
– Хорошо, – отвечаю я. – Мы могли бы провести вечер у телевизора, играя в карты и разговаривая.
– А может, тебе лучше пойти домой? Здесь холодно.
– Я могу растопить камин.
– Нет, у меня еще осталось немного разума. Меня ожидает Карл Великий. Я просто наслаждаюсь им. Серьезно.
– Я принес вам кое-что, – говорю я, протягивая ему свой портативный магнитофон. – Так вы можете слушать музыку, не производя шума.
– Прекрасная идея, – говорит он. – Я спущу вниз молоко и фрукты, которые ты принес. Тебе не придется потом снова приходить.
Мы убираем все, прежде чем поднять дверцу люка. И я закрываю ее за ним. Нужно идти выкидывать пакет с мусором. Одиссей смотрит на меня сидя, высунув язык и роняя слюну. И я тихо говорю ему:
– Л что, если мы с тобой сейчас немножко прогуляемся?
Я смотрю вокруг. Все в порядке. Закрываю дверь, выходящую в сад, только потому, что так хотел Серафим. Осторожно снимаю со стены поводок. Одиссей лает и виляет хвостом. Возможно, Серафим уже надел наушники магнитофона. Я записал на пленку музыку, которая должна ему понравиться: «Оазис», «Куин», «Энималз», Боб Дилан, «Дип пёпл», Дайна Вашингтон и Нина Симоне, которая мне понравилась с тех пор, как я узнал, что собачку Ю зовут Нина. Это превеликая глупость, что из-за какой-то мании бедолага Одиссей не может пройтись по улице и побегать по тропинке. Бесчеловечно, бессмысленно и непростительно то, что бедолага Серафим не в состоянии понять, что творит.
Поселок покрыт коркой голубоватого льда. Светло, но солнца не видно. Мы спускаемся по крутой улице к красному навесу, что рядом с пустырем и тропинкой, обсаженной тополями, с собаками и с хозяевами собак. Я освобождаю Одиссея, и тот начинает бесноваться. Носится туда-сюда как угорелый. Общается с другими собаками. Того и гляди, сшибет с ног кого-нибудь из прохожих, а мне все равно. Я еще один хозяин, который смотрит на небо, будто пытаясь понять, из чего оно состоит. Смотрю на горизонт, словно определяю расстояние. Но я слегка беспокоюсь и решаю отвести Одиссея поглубже в сосновую рощу, где он может быть по-настоящему счастлив и где, возможно, мы повстречаемся с Эйлиеном и его немецкой овчаркой. Было бы интересно посмотреть, как поведут себя наши собаки. Хоть это и звучит несколько напыщенно, но возвратиться в сосновую рощу – это все равно что вернуться на другой полюс своей жизни. Вновь вернуться в прошлое. Меня восхищает мощный лай Одиссея. Этот пес – настоящая личность с собственной харизмой. Первое, что я сделаю в понедельник, это куплю собачий корм. А вечером подойду к квартире. Если ее муж уже уехал, Ю придет туда. Поцелуи – это нечто такое, чем жертвовать нельзя. Устам нужны другие уста, как голове – раздумья, а желудку – пища. Одиссей этого не знает, потому и счастлив. Он никогда не будет впадать в отчаяние из-за того, что чего-то не имеет. Он никогда не заметит того, что отсутствует, как я замечаю это сейчас.
Я ищу Эйлиена среди постоянных посетителей рощи, а Одиссей тем временем носится между деревьев и в высшей степени счастлив. Собакам надлежит бегать, а нам – целоваться.
Домой мы возвращаемся около девяти часов вечера. Пролетело почти четыре часа, а я и не заметил. Так что я ускоряю шаг и надеюсь, что Серафим не заметил, что Одиссея не было дома, ибо при его состоянии психики он был бы крайне обеспокоен. Мы являемся с высунутыми языками. Я открываю дверь, и Одиссей начинает беспокоиться. Лает. Я зажигаю фонарь и несколько свечей. Одиссей смотрит на меня, навострив уши. Я не знаю, что он хочет этим сказать, и направляюсь к дверце люка. Открываю ее и велю Одиссею спускаться. Он мгновенно пробегает лабиринт, я следую за ним и уже не сбиваюсь с пути, пока не вхожу в яркий свет свечей.
Я удивлен. Говорю Одиссею, чтобы он сидел на месте. В такой маленькой комнате сразу видно, что здесь есть, а чего нет. На полу валяется портативный магнитофон, но Серафима нет, что приводит меня в слегка нервозное состояние. Я гашу свечи, хотя, возможно, делать этого не следовало бы, но я воспитан на беседах о противопожарных мерах, которые с нами проводились в начальной и средней школе. Вообще-то если ты способен научиться чему-нибудь, то это значит, что ты можешь научиться чему угодно. Не только тому, как избежать пожара или как следует вести себя в приличном обществе, но и жестокости, и дурным манерам, потому что никто не рождается с уже готовыми знаниями ни того, ни другого. Я удираю по лабиринту вслед за Одиссеем.
– Пахнет табаком, правда, Одиссей?
Дыма нет, но пахнет одеждой курильщика. Сквозь благоухание горной свежести, которое мне удалось навести в этом доме, пробивается зловоние, которого его носитель сам чувствовать не мог. И я увожу Одиссея с собой.
Как и следовало ожидать, моя мать пугается. Она отступает от собаки и говорит:
– Что здесь делает это животное? Я хочу, чтобы оно сейчас же ушло.
Одиссей ходит по разбросанным по полу журналам с описаниями интерьеров и пытается поднять один из них своей пастью.
– Ты хоть понимаешь, что он делает? Я не собираюсь терпеть это. Я должна работать, должна найти квартиру. Должна выйти замуж. Должна заботиться о своем единственном сыне. И кроме того, еще и мириться с пребыванием здесь собаки соседа. Соседа, который за столько лет так ни разу со мной и не поздоровался. Соседа, который так шумел, что не давал нам спать.
– Мама, собака останется здесь, поняла? Привыкай к ней.
– В таком случае, раз большой зал занимаете вы с собакой, я ухожу в свою комнату.
– По-моему, неплохая идея, – говорю я, помогая ей собрать журналы.
– Ужин на кухне, – говорит она.
– Наконец-то мы одни, – говорю я Одиссею.
Я заваливаюсь на диван, накрываюсь клетчатым пледом и зову собаку, чтобы она легла рядом.
– А теперь давай посмотрим хорошую картину. Ты знаешь, кто такой Орсон Уэллс?
Что я могу сделать для Серафима? Ничего. Я не знаю, что с ним случилось, а сейчас ночь. Я немного устал от прогулки по тропинке и по сосновой роще, а еще и от испуга, не обнаружив соседа в его убежище.
Сквозь окна видны небо и голубая полоска, обрамляющая темноту.
Я сплю до утра следующего дня. И благоразумно вывожу собаку в сад еще до того, как мать сойдет вниз. Когда она спускается, Одиссей рассматривает ее, прижав нос к стеклу.
– Этот пес все еще здесь?
– Ему больше некуда идти, он остался один.
– А его хозяин?
– Я не знаю, куда он ушел.
– А почему ты не заботишься о матери так, как о своем соседе?
– Что ты хочешь, чтобы я сделал?
– Хочу, чтобы ты пошел со мной в клинику. Меня беспокоит твое будущее.
– Да ладно тебе. Куда торопиться? Ты еще не вышла замуж.
– Ты что, собираешься ждать, пока я не выйду замуж, чтобы приступить к работе?
– Не дави на меня, пожалуйста.
Мать уходит, хлопнув дверью. Через час явится домработница, назовет меня бездельником и скажет: «Либо я, либо собака». Хотелось бы знать, вернулся ли Серафим и было ли еще какое-нибудь движение в его доме, но я предпочитаю поспать до тех пор, пока не послышатся звонкие голоса ребятишек, направляющихся в школу. Этим созданиям следует платить зарплату. Они раньше всех встают и больше всех работают в этом самом ленивом поселке в мире. Потом появится наша домработница. Потом пойдут кассирши из «Ипера». А уж потом появится войско садовников, которые бродят по городским садам и всегда с бутербродом в руках. И за ними войско сотрудников и посетителей спортивного комплекса, великих потребителей кофе в кафетерии. Выбирая между клиникой и спортивным комплексом, я отдаю предпочтение спортивному комплексу. Я к нему привык. Делать отметки в карточках мне кажется достойным занятием. Почему я не могу провести жизнь, отмечая карточки и мечтая о короткометражном фильме, а по уик-эндам встречаться с Ю в квартире Эду? Почему так настойчиво пробивает себе путь безразличие, то, которого по-настоящему ты не желаешь?
К вечеру, когда мать возвращается с работы, готовая принять энную дозу того, что позволит ей снять с себя груз постоянных смен настроения, я беру автомобиль и подъезжаю к квартире Эду. Иду туда в надежде увидеться с Ю. Это такая большая надежда, от которой расширяются небеса, растворяется тьма и разверзается глубина. Из глубины льется свет, льется волнами, одна за другой. Свет освещает путь, улицу, на которой я паркую машину, и портик, через который я попадаю в лабиринт дверей, ведущий к квартире номер сто двадцать один. Мной одолевает страх, что Ю испарилась, или что, открыв дверь, я увижу там семейство, которое живет в этой квартире, или что ключ не подойдет к замку.