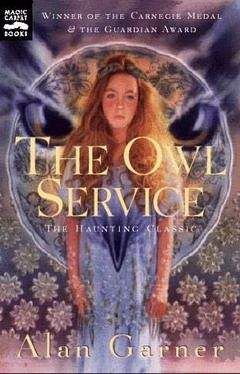Сейчас он, еще не наметив рисунка, замер над листом, увлажненным для акварели — и вдруг словно очнулся. Движение кисти без краски по отблескивающей прозрачно поверхности стало обозначать неявные очертания. Герман Иванович понял, что он рисует вовсе не драпировку с кувшином. Краска, слабо коснувшись листа, стала сама разливаться, расцветал, проявляясь почти мгновенно, луг, сияющие облака. Внезапно преподаватель увидел, что на листе возникает мальчик с его акварели. Бессонов, похоже, успел мимоходом разглядеть коробку, оставленную на преподавательском столе. Ловец парил среди облаков, не находя на земле опоры, свободный, как бывает во сне, влажные потеки на глазах преображались, подвижные, тающие. У Германа Ивановича почему-то защемило сердце. В следующую минуту сияние померкло, просохшая краска стала едва видимой, то, что было синевой неба, покрылось сыпью темненьких тлей: акварель, купленная в магазине канцтоваров, была явно замешана на песке.
Иннокентий, наконец, ощутил присутствие преподавателя за спиной, оглянулся беспомощно и виновато. А на Германа Ивановича накатила непонятная слабость, лоб покрылся холодным потом. Что это было? — не мог понять он. Извинившись, поспешил закончить занятия, пошел домой, осторожно, медленно, останавливаясь по пути, доставал из кармана коробку с красками, снова вглядывался в изображение на крышке. Репродукция была хорошего качества, но она словно погасла, засохла, казалась неживой по сравнению с тем, что на миг только что засияло, как воспоминание о невозможном, о чувстве свободы, похожей на полет, которого можно во сне испугаться. Возле своего дома ему пришлось остановиться снова. Он опять достал коробку. Вдруг показалось, что ловец облаков похож на этого Иннокентия. А ведь когда то он, помнится, попытался наделить его своими юношескими чертами, хотел вложить в него что то свое… передать что-то… не удавалось вспомнить…
Герман Иванович поднял голову, тупо уставился на табличку с названием: улица Урицкого. Ну и адресок у тебя, написала ему дочь. До него только тут дошло, что она имела в виду. До сих пор как то не сознавал своего адреса. Он ухитрялся многого не замечать, не допускать в сознание, тратил остаток душевных сил, чтобы ничего не называть своими словами: убогость быта, нищенскую зарплату, самодурство толстой завклубом Серафимы Петровны, которая заставляла его заниматься унизительной оформительской работой, хотя это не входило в его обязанности. Не подавал виду или уверял себя, что его это не задевает. Высоко поднятая голова должна была уравновесить сутулость, похожую на горб — и ведь уже не выпрямиться. Острие ясной тоски больно вонзилось в сердце. И с этим юношей будет то же, — успел смутно подумать он…
Очнулся он уже в районной больнице, откуда его увезет, наконец, спешно примчавшаяся дочь. Перед отъездом он еще вспомнит про коробку акварели, попросит дочь передать ее Иннокентию Бессонову, но не узнает, что у нее не нашлось времени выполнить его поручение, как не услышит, что произошло на скандальном сеансе с его учеником, который отказался увидеть то, что ему хотел внушить гипнотизер.
3
После непонятного происшествия на сеансе мама старалась всячески оберегать Кешу, поглядывая на него с тревогой, близкой к испугу. Не то чтобы он совсем изменился — стал больше обычного рассеянным, вялым, целые дни проводил на своем чердаке. Там у слухового окна был сколочен небольшой столик, где в теплое время года можно было уединенно заниматься. Считалось, что он готовится к выпускным экзаменам в школе. Ева Антоновна и раньше не особенно загружала сына работой на огороде, теперь перестала его посылать даже в магазин. Она вообще предпочитала все делать сама и при нескладной утиной походке ухитрялась находиться одновременно в разных местах: на кухне, в курятнике, у огуречных грядок. Работая на почте, она вставала раньше всех и спешила наносить воду с утра на весь день, пока все спали, чтобы по пути к уличной колонке никому не встретиться с пустыми ведрами. Семен Григорьевич посмеивался над бабьими суевериями, но перехватить у жены ведра не спешил. Ева Антоновна оправдывалась, что сама она в приметы не особенно верит, просто не хочет, чтобы другие считали ее причиной своих неприятностей. При надобности она сочиняла для себя временные приметы сама, а если они не оправдывались, переиначивала, приспосабливая к происшедшему в действительности. Эти самодельные приметы передавались иной раз другим и становились общим достоянием, обогащая фольклор — но не так ли возникали и все прочие, уже обкатанные временем?
Экзамены Иннокентий сдавал кое-как, учителя предпочли бы выпустить его из школы, даже если бы он вовсе молчал. Учебники он раскрывал ненадолго, начинал перебирать разбросанные вокруг рисунки, цветные репродукции, вырезанные бритвой из библиотечных журналов. Когда-то он их бесконечно копировал, умел сам по памяти очень похоже нарисовать что угодно, потом все больше пробовал воспроизводить то, что ему привиделось — явственно, как бывает только на самом деле. Это были попытки уловить мгновения, когда потоки нагретого воздуха колдовски начинали волновать очертания предметов, фокусничали с домами, деревьями, они становились, как воздух, легкими, парили в нем без опоры, не отбрасывая тени. Красками никак не удавалось выразить эту волшебную легкость, можно было только, прикрыв глаза, впрок запечатлевать увиденное на внутренней оболочке век. С чердака более близкими казались облака, он мог смотреть на них так долго, что в легком головокружении сам начинал зачарованно плыть вместе с ними куда-то, вглядываясь в живые, неуловимые, неисчерпаемо переменчивые формы, и водил воображаемой кистью, представляя, как однажды сумеет перенести их на бумагу, не умертвив. На сеансе гипнотизера ему на миг показалось, что это возможно — в таком настоящем, невиданном прежде сиянии вдруг открылся ему мир.
И вот он словно закрылся, отгородился завесой. Иннокентий смотрел из чердачного окна по сторонам, не в силах понять: случилось ли что-то со зрением? Или дело было просто в том, что вокруг горели торфяники, воздух был непрозрачным, мглистым, небо затянуто ровной белесой пленкой, как глаз спящей курицы? Пахло гарью, люди двигались неуверенно, точно угорелые. Он опускал взгляд на улицу, еще недавно тронутую зеленью мелкой травки. Сейчас зелень почти сравнялась цветом с печной золой и шлаком, которые выбрасывались на дорогу, чтобы избавить ее от грязи, и вместе с той же усохшей грязью приобретали вид белесого, бесцветного мусора. Толстая соседка Серафима Петровна вечность назад вышла за калитку с ведром, в шлепанцах, из под халата выглядывали серые тренировочные штаны со штрипками, рядом остановилась другая, тощая, с отвисшей кошелкой в руке — шла, видимо, из магазина. Обе стояли одна против другой, шевеля беззвучно губами, неподвижные в остановившемся времени, застыв, может быть, навсегда, как часть неизменного до тоски пейзажа. Неподалеку угнездились в нагретой пыли куры, когда-то белые, сейчас посеревшие, как на одноцветной плохо проявленной фотографии. Вишни отцвели, отгорели. Сосед-алкоголик Калюжный, переживший приступ бессмысленного трудолюбия, сидел на перевернутой тачке, добавлял в воздух дым из самокрутки, вставленной под прямым углом в плексигласовый мундштук. Много лет назад он начинал рыть у себя на огороде просторный погреб, в котором нечего оказалось хранить, теперь обдумывал, не оправдать ли затраченный труд, продолжив под землей линию метро от огорода до железнодорожной станции в пяти километрах. Тоннель должен был пройти под руслом реки Лешачихи, заодно избавив город от необходимости восстанавливать каждую весну хлипкий мост, который эта коварная река, взбесившись, неизменно сносила. Иннокентий проводил взглядом, как прутиком, по клавишам некрашеного забора, видел покосившуюся калитку, основания столбов прямо на глазах превращались в гнилушки, доски, сваленные у серой стены сарая, прорастали таким же бесцветным мхом, из них сами собой вываливались один за другим гвозди, чтобы вместе с досками превратиться в общую труху. На всем был унылый налет выгоревшей пыли, остывшей печной золы. Серой была вода, в которую Иннокентий пробовал макать кисть, краски теряли цвет прежде, чем он успевал их нанести на бумагу, и сама бумага безнадежно серела. Что то невозвратимо закрылось — и, может, не только для него? Может, другие даже не подозревали, что им не дано увидеть чего-то? Он был бессилен это объяснить, показать и чувствовал себя виноватым за свой, может быть, неисцелимо испорченный взгляд, за неспособность вспомнить, расколдовать омертвевший, поблекший мир. Работы на листах были неузнаваемыми, чужими, как засушенные цветы, он рассеянно рвал один за другим, но их накопилось много, это скоро надоедало, к тому же он вспоминал, что надо сохранить хоть образцы для поступления в областное художественное училище.