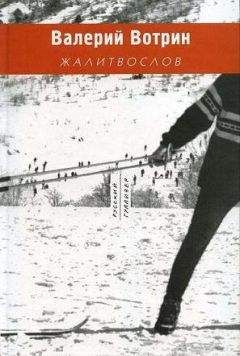Не быть.
Давно был застроен вновь, но сам этого даже не заметил. Бездумье, тяжкое, как известняк, завладело им, когда он понял, что худшие его опасения подтвердились. Равнодушно смотрел он на постройки, возводимые в нем, — что с того, что они красивы? Ведь они так же нереальны и пусты, как и он сам. Завтра он проснется, поищет, а их нет. И он даже вяло удивлялся иногда, когда видел, что иное здание стоит дольше других, уцелевая в войне.
Он опустился и перестал за собой следить. Временами стал впадать в старческий сон, короткий и неглубокий. Даже когда его стали застраивать большими зданиями, а потом, после еще более опустошительного землетрясения, отстраивать всем миром, прокладывать широкие улицы, возводить дворцы и дома из бетона, — даже это не вывело его из этого сна, где продолжала мучить его жестокая заместительница той, настоящей истории и где все было как и въяве, вплоть до мельчайших деталей. Но видишь, видишь эти великие здания? Все это будет когда-нибудь разрушено, так что не останется здесь камня на камне!
От Прохорова Бурятов возвращался затемно, весь пропаренный, успокоенный, умиротворенный. Всегда такие дружеские встречи вселяли в него какую-то уверенность, и, оптимист по натуре, он чувствовал еще большую надежду, обязательно надежду, без которой невозможно жить. И его оценка окружающего была после бани тоже распаренной и умилостивленной, как будто на тлеющие угли его рассудка плеснули водой, и все вокруг заволоклось горячим обманчивым паром.
Но тем проще было ему прийти к заключению, что они своей баней, своими разговорами, своею далеко нелестной оценкой всего происходящего препятствуют наступлению другой истории, огромной и глыбкой, которая наплывает на окна их сауны, слепя рядами прожекторов и оглушая репродукторами, вопящими на так и не выученном языке. Им выпала сомнительная честь принадлежать к одному из тех, прямо сказать, несчастливых отрезков истории, которым приводится быть переписанными наново или, того хуже, стертыми. И только по прошествии многих лет эту их историю, если повезет, очистят от фальшивого верхнего слоя, и тогда сквозь глянец официоза проступит грунт подлинной истории, та правда, которая, казалось, навсегда была погребена под позднейшими наслоениями. Не всякому историку выпадает быть еще и реставратором. Иному вольно лишь на свой лад толковать да перетолковывать, напяливая на знаменитых деятелей прошлого еще по маске и выдавая их за арлекинов, а пустую эту игру своего праздного ума за занятие историей. Но напяливание личин еще не самое страшное. Страшно, когда тебя стирают. Но ты еще жив и хочешь жить и дальше. Но в бане ты паришься уже стертый, и плоды рук твоих, дела, что ты совершил на благо других, посыпаны уже легкой мучицей забывания, а деяния твоих отцов едва уже различимы, занесенные плотным снегом забвения. Мы не заслужили деления на касты по историческому признаку. Нас нельзя сажать в некое историческое гетто, не дозволяя выхода в нынешнюю реальность, которая с течением времени застынет в историю, пусть пока необожженную, — но мы имеем право и на такую историю. Мы еще не отрезанный ломоть, мы хотим участвовать в вашей истории!
Об этом просто и горько говорил в бане Кривицкий, душа-человек, если вдуматься, не люби он язвить себя и окружающих подобными афористическими высказываниями, забравшись на самый высокий полок парилки, в темную жаркую верхотуру, отчего его слова на свежем воздухе получали вдруг свойство оказываться о другом, совершенно неожиданном смысле, точно с погружением в ледяную купель приобретали необходимую многозначительность. Но затем этот раскрывающийся на свежем воздухе павлиний хвост из значений внезапно опять сворачивался под воздействием слов вступающего Наумова.
Наумов говорил всегда одно и то же и в одних и тех же словах, точно, прибавь он что-либо от себя, это вызвало бы необратимые сбои в его механизме, который и так в последнее время начал заедать и бестолково проворачиваться и требовать капитального ремонта. По Наумову выходило, что все их беды проистекают из-за того, что их списали до истечения срока, хотя по плану они могли бы работать еще. Но их преднамеренно обесценили заранее, не по фактическому износу, а отсюда лишь один путь — на свалку. Вслед за этим Наумов начинал говорить о сроках своей собственной амортизации и об особенной ее ускоренности, говорить языком технических спецификаций, употребляя слова шатунно-бегункового свойства, которые наводили на всех тоску, и выбивали из настроения, и заставляли вспоминать что-нибудь совершенно неожиданное — что пылесос из ремонта еще не взят, и сколько стоил до независимости килограмм металлолома, и что, наконец, техосмотр на носу, а прокладка пробивает, и выхлоп такой, как будто на солярке ездишь. Наумова перебивал Прохоров всегда одной и той же фразой: «Да, Виктор Михалыч, стары мы стали для таких-то дел!», — и тот никогда не интересовался у него, для каких таких, собственно, дел они стали стары. В ответ он лишь кивал и умолкал понуро.
О, как хорошо знал Бурятов устанавливающуюся после этого паузу, которую невозможно было нарушить, паузу, в которой растерянность, жалость, уныние мешались вместе и образовывали непреодолимый заслон словам. В такие минуты молчание повисало в предбаннике, где отдыхали после парилки, и только самовар тихо запевал, закипая. Кто знает, до чего это могло довести всякий раз — Бурятову казалось, что кто-нибудь вот-вот ударит шапкой о стол, вскрикнет и уронит голову на руки в накатившей внезапно тоске, — если бы не хозяин. Прохоров был мастер сглаживать острые углы. Обладая способностью никогда не поддаваться гипнотическому воздействию перепадов настроения собеседника, Юрий Андреевич всегда тонко ощущал момент, когда нужно было вставить в разговор что-то отвлекающее и отрезвляющее, иногда даже глупое. Ничто так не вразумляет, как глупость, сказанная кем-то другим. Прохоров понимал это и великолепно умел воспользоваться моментом, чтобы предупредить неприятную, тягостную ситуацию. С Наумовым это превратилось уже в традицию, так как все уже знали, что скажет любезный Виктор Михайлович в следующую минуту, и только и ждали смягчающей фразы Юрия Андреевича. Но это действовало даже и в том случае, когда приходил Леонид Павлович Гребцов, человек тяжелый, неудачливый в жизни и просто нестерпимый во хмелю. И даже с ним умел Юрий Андреевич так повернуть беседу, чтобы она не стала мукой для окружающих, как происходило обычно во время разговора с Гребцовым, а протекала легко и непринужденно, даже с приятцей. Получалось это, наверное, от собственного Юрия Андреевича отношения к человеку, пусть даже такому, как Гребцов, и окружающие могли видеть, что Юрию Андреевичу есть что вспомнить приятного, выпавшего им когда-то с Гребцовым на двоих, что тот хороший, стоящий человек, только вот жизнь его бьет, несладкая она у него. Да и вообще, у кого сейчас жизнь сладкая? Всем тяжело, люди вон друг на друга собаками гавкают, и негоже в такое время разбрасываться друзьями, даже такими, как Гребцов. И за это любили Прохорова окружающие, считали мудрецом и частенько советовались с ним по разным наболевшим вопросам.
Но в этот раз Юрию Андреевичу даже не пришлось вмешиваться в разговор самому, чтобы скрасить паузу после слов Наумова. В баню зашел поздравить его с днем рождения старинный приятель Прохорова, Всеволод Степанович Громеко. Куда-то он в последнее время запропал, давненько о нем ничего не было слышно, и теперь выяснилось, что уезжал Всеволод Степанович читать лекции по своей лимнологии в один германский университет по приглашению какого-то весьма уважаемого фонда, вернулся недавно и сразу же решил зайти, чтобы поздравить дорогого друга Юрия Андреевича. Понятно, что появление Всеволода Степановича мигом разогнало тоску, всколыхнув тихую местечковость прохоровской сауны с ее одними и теми же вечно перемываемыми темами.
Громеко париться не стал. Ему было не до того. У него накопилось много чего рассказать, и прежде всего о жизни некоторых наших бывших, и кто как устроился, и кто чем живет, и он с самого почти порога начал выкладывать свои новости блоками, как это делают информационные программы. Нет, все-таки Наумову с его заунывными монологами о вселенской амортизации было до этого явно далеко. Вместе с Громеко в сауну вторгся и зашумел чужими понятиями мир университетских образовательных программ, а также международного сотрудничества в рамках этих программ, разветвленных и разносторонних, и Бурятову на миг почудилось, что все это время они напрасно отсиживались в стенах своей сауны, а когда на гостеприимство хозяина полагаться было уже невозможно, запирались в своих домах, превращенных в подобие крепостей. Они не желали склонять свое ухо к шуму мирского прибоя, который день за днем накатывал на их стены, — мир был устрашающ, но и притягателен, им хотелось преодолеть его, как море, но было боязно его глубины. И вот теперь Громеко, пересекший этот океан в своей утлой лодчонке, про которую ему говорили, что она ни на что не годится, вернулся героем, точно упрек им бросая, — я видел страны, я видел людей, они живут совсем, совсем по-другому, и я стал почти как они, и те, бывшие, кого я видел, они тоже стали как те, с кем они живут бок о бок. А что произошло здесь в мое отсутствие? Что произошло с вами?