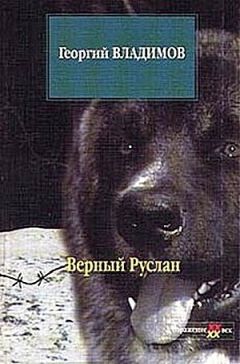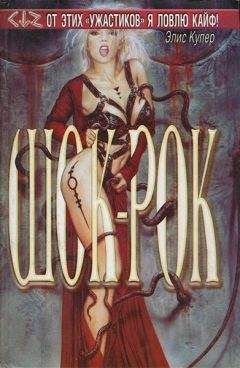…Как ему и предсказывала та, о ком он напрасно старался не думать, он далеко не ушел от переправы. Его временное житье на отшибе, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, в двух километрах от Днепра, кончилось неожиданно и сразу, когда он услышал железное урчание и в проломе стены проплыл дульный срез танковой пушки, а следом вплыла и замерла высокая башня «КВ». Кажется, Хрущев завел моду высоким чинам разъезжать повсюду в танках признаться, не лишенную смысла: она и проходимость повышала, и сокращала нужду в большой охране. В этом танке наехал к нему Ватутин — как и он сам любил наезжать нежданно к своим подчиненным, чтобы застать все как есть. Напрасно ему казалось, что если не тревожить начальство новыми предприятиями, то все обойдется. Он забыл свое же мудрое изречение насчет вкусной дичи: она вызывает интерес не тем, что кого-то беспокоит, а тем, что вкусная.
Кобрисов, спешно застегиваясь, вышел встречать. С видимым трудом, при своей коренастости и тучности, командующий фронтом протиснулся из люка, но спрыгнуть молодо не решился. Кобрисов ему помог сойти — за что получил добрый совет:
— И ты бы вот так ездил, очень даже удобно. Хотя — ты моими советами пренебрегаешь.
Это он напомнил, что Кобрисов к нему не обратился в канун переправы, а поспешил свои танки угнать. Кобрисов склонил голову, что могло значить и признание своего проступка, и что победителей не судят.
— Духоты не люблю, — сказал он примирительно. — Люблю чистым ветерком дышать. — И добавил некстати: — Тоже и армия хочет видеть своего генерала.
— А я хочу видеть тебя, — возразил Ватутин слегка запальчиво. — Живого и не раненого.
Убежище Кобрисова — наспех отрытую щель под окнами — он осмотрел критически, заметил, что слишком близко к стене и при бомбежке завалить может, не удержался и от других замечаний:
— Что у вас делается, генерал Кобрисов? Охранения — никакого. От самой переправы еду, и никто мой танк не задержал.
— Стало быть, знали, кто в танке едет.
— Ах, так…
— Да уж, догадались. А что вы моего охранения не заметили, за это я им, с вашего разрешения, благодарность объявлю. Умеют маскироваться и начальство зря не беспокоят.
Ватутин посмотрел на него с легкой усмешкой, едва скрывавшей раздражение.
— Занятный ты мужичок, Кобрисов. Ладно, веди в свои покои, посмотрю, как ты живешь.
Кобрисов его повел на второй этаж, в дальнюю угловую комнатку с табличкой на двери «Комната матери и ребенка»; там Шестериков поставил койку, письменный стол и табурет. Другая мебель здесь бы не поместилась, поэтому хозяин уселся на койку, гость же оседлал табурет, — не сняв кожанки и отклонив предложенный чай, тем подчеркнув спешность и кратковременность своего пребывания.
Не сказать, чтоб жилище Кобрисова ему больше понравилось.
— Что-то ты… слишком уж скромненько. Прямо, как студент, живешь. При штабе оно бы веселее…
— Да штаб мой еще не весь переправился. Как только окопается — тут неподалеку, в селе, — так и я переселюсь.
— Ага… А то уже слухи ходят, ты с людьми не уживаешься.
— Слухи, — сказал Кобрисов.
Ватутин долго смотрел на него синими глазами, слегка досадливо покусывая губы. Он в этот приезд заметно внимательней всматривался в лицо Кобрисова, желая, верно, прочесть в нем что-то новое и еще не открывшееся, либо то, чего раньше не замечал.
— Хочешь мое мнение знать? — спросил он.
— Весь внимание, Николай Федорович.
— С переправой тебе, в общем, повезло. Почти не встретил сопротивления. Противник здесь не имел резервов. Что, между прочим, соответствовало нашим предварительным оценкам. Это не значит, что нет твоей заслуги — хотя бы в выборе места. А все же еще две причины сработали: одна — что фон Штайнера все ж таки Сибежский плацдарм, который ты критикуешь, сильней занимает. А вторая — может быть, тут сыграло роль, что не сразу ты эту переправу затеял. Он уже, поди, считал, что мы тут не рискнем. А мы вот рискнули — разрешили тебе взять плацдарм. Ну, и твоя заслуга тут тоже есть — напомнил, настоял…
Кобрисов дважды покорно склонил голову, не соглашаясь ни с первой причиной, ни со второй.
— Подозрительно мне, — сказал Ватутин, — когда ты соглашаешься. Все же загадочный ты мужик, Фотий… Но… Бог с тобой. Я не затем к тебе на пароме переправлялся, чтоб твое согласие испрашивать…
«А зачем ты переправлялся?» — подумал Кобрисов.
— А затем, — продолжал Ватутин, — чтоб сказать тебе: определись, Кобрисов. Определи свои отношения с соседями. Вот ты переправился — и глазом уже на Предславль косишь. Уже твоя армия правым плечиком вперед стоит и команды «Марш!» ожидает. Ну, так мы все и подумали сразу. Не буду тебя экзаменовать, как мальчишку, какой у тебя дальнейший план. А только о Мырятине ты всерьез не думаешь — как оно, между прочим, было бы по правилам. Это для тебя мизер. А напрасно, противник еще далеко не выдохся, он может вот именно тут подтянуть резервы. Я ни на чем не настаиваю, генерал Кобрисов. То есть я пока не настаиваю. Но грянет час, тебе этим городишкой станут глаза колоть.
— Что ж вы думаете, вдруг я Предславль возьму? С моими-то силенками?
— Прибедняешься, — сказал Ватутин. — Я тебя ценю… ценил до сих пор, по крайней мере, что ты все же не числом пытаешься воевать, а каким-никаким умением. Но «вдруг» у тебя уже точно не получится. Покуда стоял ты себе спокойно, где судьба определила, никого это не волновало. А ты — плацдарм берешь… Так что «вдруг» тебе одному не обломится. Но на свою долю… значительную долю в общей победе — ты теперь можешь претендовать. За успешную переправу. За дерзость. И вообще — пора тебе как-то приобщиться побольше к людям, в круг войти. Ты же любимцем фронта мог бы стать, не хуже Чарновского. Подумай об этом. И не уставай благодарить соседей. За вклад. За чувство локтя… или как там? В общем, солидарность прояви. Мой тебе совет. Не начальственный — дружеский.
— Спасибо…
— На здоровье. Это уж как водится…
Большей откровенности они бы достигли, прибегнув к водочке, но это для данных русских особей исключалось, поскольку один из двух, Ватутин, был непьющий. Среди генералов, каких только знал Кобрисов, этот выделялся не столько редкой работоспособностью, как этим дивным свойством. За что и считался «интеллигентом». Не так чтобы истый был трезвенник, мог при случае и пригубить, но к откровенности это не больше располагало, чем «напиток полководцев» — чай.
И все же Кобрисов смог оценить расположение к нему начальства, когда оно, понизив голос, произнесло с грустью:
— Ты же знаешь, Фотий, мы со своими больше воюем, чем с немцами. Если б мы со своими не воевали, уже б давно были в Берлине…
Этими словами, подчеркнув интонацией и скорбной игрой лица, что они предел доверительности, он ее и закрыл. Откликнуться на них нельзя было иначе, как долгим вздохом и невнятными междометиями. А сколько еще хотелось спросить Кобрисову, как жгло ему язык: «Упрекали меня, что не замахиваюсь по-крупному. Ну вот, еще не замахнулся, даже и намерения не проявил — и что же? Нет у меня права на такой замах, все права — у Терещенки?» Но он предпочел — благодарить. И кажется, его благодарность не показалась Ватутину подозрительной. Значит, повел себя, как вкусная дичь.
Тотчас по отбытии командующего фронтом генерал Кобрисов достал свою карту с первоначальным эскизом, который он набросал сразу после переправы. Эскиз успел постареть: уже не один, а два плацдарма имела его армия на Правобережье, соединенных узкой, в полкилометра, полоскою берега. Между ними вклинивался «свиньей» передний край немецкой обороны; почти в центре этого треугольного выступа и находился Мырятин. И первой же мыслью Кобрисова было — ударить с двух сторон под основание выступа. Два глубоких охватывающих вклинения, так повернутых остриями друг к другу, чтобы где-то за Мырятином угадывалось пересеченье осей, создавали бы предпосылку окружения. Мысль была проста до примитива, но тем и нравилась Кобрисову. Она вполне удовлетворяла известному требованию Гинденбурга: «Наибольший успех нам обеспечивает простота замысла». Было здесь, правда, и осложнение, связанное с передачей оперативной инициативы противнику; пришлось бы ждать его ответных шагов, но на сей счет генерал Кобрисов беспокоился не слишком и говорил, сам себе подмигивая: «И подождем, куда тут торопиться…» Его замысел, помимо достоинств простоты, еще и успокоил бы тех, для кого надо было изобразить операцию. Эти клинья, вонзившиеся в оборону противника, хотя бы на том и застывшие, выглядели куда динамичнее линейного фронта; немцам они грозили «котлом», соседи — могли убедиться: человек поглощен операцией с решительной целью и большим размахом, о каком Предславле ему еще думать…
Вычертив эти две стрелы, он принялся раскладывать пасьянс. Всегдашнее горестное занятие генерала — что-то выкраивать из дорогих ему, таких необходимых сил и средств, которых всегда не хватает! Не хватает людей, орудий, танков, самолетов, снарядов, горючего, водки, жратвы, черта, дьявола. (И, конечно, всегда баб не хватает!..) Счет шел уже не на дивизии на полки; разведанные силы противника большего и не требовали, но жаль было и полков! С болью в душе он выделил на каждое вклинение по три отдельных стрелковых полка, усиленных противотанковыми артдивизионами. Еще покряхтев, вспомнив, что скупой платит дважды, добавил по пулеметному батальону. Записал себе — попросить у Галагана хоть по две эскадрильи штурмовиков. Танков — рука не поднялась хоть один отдать из шестидесяти двух. «Выкуси! сказал он тому неведомому, кто на них рот разевал, все требовал и требовал. — И на том спасибо скажи!»