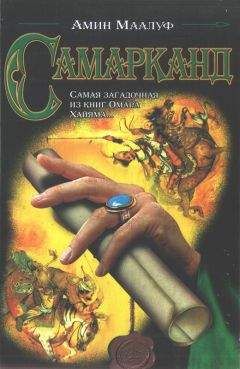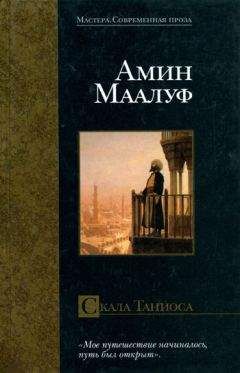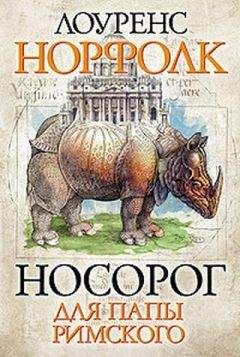— Прикажи своим людям не двигаться! — рявкнула нищенка мужским голосом.
Зеруали не посмел ослушаться.
— Вели им отправляться в ближайшую деревню!
Несколько минут спустя на тропе остались лишь лошадь и два неподвижно застывших человека, один из которых держал в руках нож. Не сразу двинулись они в путь. Разбойник помог Зеруали принять вертикальное положение и, сойдя с дороги, повел его пешком в горы, где и исчез с ним, словно дикий зверь с добычей в зубах. И только там назвал себя своей жертве.
Больше трех лет прошло с тех пор, как Харун поселился в горах Бени Валид под защитой местных жителей. Что подтолкнуло его поступить подобно разбойнику? Единственно ли жажда мести или страх перед появлением заклятого врага в этих местах, где тот мог вновь взяться за старое, притеснять Мариам и двух сыновей, которых она родила Харуну? В любом случае он действовал как мститель.
Харун привел жертву в свой дом. Завидя их, моя сестра испытала еще больший ужас, чем Зеруали. Муж ни словом не обмолвился о задуманном. Она сперва никак не могла взять в толк, что происходит, поскольку никогда не видела своего бывшего жениха.
— Оставь детей и иди за мной, — велел ей Харун, проходя вместе с пленником в комнату, служившую им спальней.
Мариам последовала за ними и опустила занавеску, заменявшую дверь.
— Взгляни на эту женщину, Зеруали!
Заслыша имя, сестра прошептала проклятие. Старик ощутил лезвие ножа у своей челюсти. Не открывая рта, он слегка отстранился.
— Раздевайся, Мариам!
Она недоверчиво, полными ужаса глазами взглянула на мужа.
— Я, Харун, твой муж, приказываю тебе раздеться! Повинуйся! — взревел он.
Бедняжка неловко, дрожащими руками открыла лицо, волосы. Зеруали прикрыл глаза и уронил голову на грудь. Ему было хорошо известно, какая участь ожидает того, кто увидит обнаженной чужую жену.
— А ну подними голову! Смотри! — послышался обращенный к нему приказ, сопровождавшийся резким движением ножа.
Зеруали выпрямился, но глаз не открыл.
— Смотри же, — настаивал Харун, в то время как Мариам раздевалась, утирая слезы.
Платье упало к ее ногам.
— Смотри на это тело! Есть ли на нем хоть пятнышко проказы? Подойди, погляди поближе!
Харун принялся трясти Зеруали, то подталкивая его в сторону Мариам, то оттаскивая назад, а когда наконец отпустил его, тот пал к ногам моей сестры.
— Довольно, Харун, умоляю тебя! — закричала она, с состраданием и ужасом взирая на распростертого перед ней жалкого человека.
Глаза Зеруали приоткрылись, но двигаться он перестал. Харун опустился рядом с ним, пощупал его пульс, потрогал веки, а затем поднялся. Он был совершенно спокоен.
— Этот человек заслужил того, чтобы умереть как пес у ног самой невинной из своих жертв.
До наступления темноты Харун зарыл тело Зеруали под фиговым деревом, не сняв с него ни платья, ни башмаков, ни драгоценностей.
ГОД БУРАНА
918 Хиджры (19 марта 1512 — 8 марта 1513)
В этом году моя жена Фатима скончалась родами. Три дня я оплакивал ее так, словно страстно любил. Ребенок, мальчик, не выжил.
Незадолго до сороковин меня срочно вызвали во дворец. Султан только что вернулся из своей летней кампании против португальцев, и хотя фортуна так и не повернулась к нему лицом за все это время, все же мне было невдомек, отчего меня приняли во дворце с такими постными физиономиями.
Сам султан не выказал мне никакой враждебности, однако был холоден и назидателен.
— Два года назад ты просил меня о милости по отношению к мужу твоей сестры, Харуну-разносчику. И получил ее. Но вместо того чтобы исправиться и быть благодарным, он так и не вернулся в Фес, предпочитая незаконно проживать в Рифе и ждать случая отомстить старику Зеруали.
— Ничто не доказывает, Ваше Величество, что Харун расправился с ним. Эти горы кишат разбойниками…
— Труп Зеруали найден, — перебил меня канцлер, чей голос звучал вовсе не так безобидно, как голос султана. — Он был зарыт возле дома, где проживали твоя сестра и ее муж. Стражники опознали жертву, с него не были сняты драгоценности. Разве это похоже на преступление обычного бандита с большой дороги?
Надо сказать, что как только до Феса дошел слух об исчезновении Зеруали четыре месяца тому назад, когда еще и речи не было о каких-либо изобличающих Харуна фактах, мысль о мести моего друга тотчас пришла мне в голову. Я знал, что он способен довести дело до конца и что он поселился именно в той части Рифа, где пропал Зеруали. Мне неловко было заявлять о его непричастности, и все же я должен был это делать, ведь малейшее сомнение с моей стороны могло нанести ему вред.
— Ваше Величество обладает слишком большим чувством справедливости, чтобы согласиться обвинить человека, не дав ему возможности оправдаться. Особенно если речь идет о члене такой уважаемой корпорации.
Султан раздраженно прервал меня:
— Речь не о нем, а о тебе, Хасан. Это ты потребовал изгнания Зеруали, это по твоему настоянию ему было велено отправиться в ссылку в родные края, где на него напали и убили. На тебе лежит ответственность за все.
Пока он говорил, мои глаза уже примеривались к темноте, царящей в тюремном доме. Я уже представлял себе, как отбирают мое имущество, унижают моих родных, продают на невольничьем рынке Хибу. Ноги мои подкосились, холодный пот бессилия выступил на лбу. И все же я еще пытался что-то отвечать, жалко и неубедительно.
— В чем меня обвиняют?
Тут в разговор снова вступил канцлер, ободренный моим слишком явным испугом:
— В пособничестве, Гранадец! В том, что преступник остался на свободе, а жертва послана на верную гибель, в том, что ты злоупотребил милостью и добротой Нашего Господина.
Я пытался защищаться:
— Как мне было догадаться, когда именно и какой дорогой вернется Зеруали из паломничества? Харуна же я потерял из виду четыре года назад и даже не смог довести до его сведения милость, которой он удостоился.
На самом деле я слал ему послание за посланием, но он упорно не желал отвечать на них. Мои слова тронули султана, и в его голосе появились дружеские нотки:
— Ты ни в чем не виноват, Хасан, но все против тебя. И в глазах большинства должен понести наказание. В то же время я не могу забыть, что ты верно служил мне.
Он умолк, взвешивая все «за» и «против», и я поостерегся прерывать его размышления, нутром чуя, что он склоняется к милосердию. Канцлер нагнулся к нему с явным намерением повлиять на него, но султан недовольно отстранился, после чего постановил:
— Тебя ждет не участь убийцы, Хасан, а участь жертвы. Как и Зеруали, ты приговариваешься к изгнанию. В течение двух лет ты не будешь являться во дворец, проживать в Фесе и какой-либо другой принадлежащей мне провинции. Начиная с двадцатого дня месяца раджаба всякий, кто увидит тебя в границах королевства, уполномочен доставить тебя сюда в кандалах.
Несмотря на суровый приговор, мне пришлось сделать усилие, чтобы не выказать своего облегчения. Я избежал темницы и разорения, а продолжительное путешествие ничуть меня не пугало. А кроме того, у меня был целый месяц, чтобы привести в порядок свои дела.
* * *
Мой выезд из Феса был триумфальным. Было важно отправиться в изгнание с высоко поднятой головой, разодетым в парчу, и не ночью, а при свете дня, и проследовать по кишащим людьми улочкам во главе внушительного каравана, состоящего из двух сотен верблюдов, нагруженных всякого рода товарами, пятидесяти вооруженных стражников, бывших у меня на содержании и готовых отразить нападение грабителей, наводнивших дороги. При мне было двадцать тысяч динар — целое состояние. Проезжая по городу, я сделал три остановки: перед медресе Бу-Инания, во дворе мечети Андалузцев и на улице Горшечников у ворот Победы, и каждый раз бросал в толпу золотые монеты, в ответ удостаиваясь приветствий, благодарных возгласов и оваций.
Это было рискованно. Несколько недоброжелательных слов, сказанных на ушко канцлеру, затем переданных султану, — и я мог быть схвачен и обвинен в том, что обернул в шутку высочайшее повеление. И все же я пошел на этот риск не только из-за своего самолюбия, но и ради отца с матерью, и дочери, которым предстояло прожить без меня эти два года.
Разумеется, я оставил им достаточно средств, чтобы они долгие годы могли себе ни в чем не отказывать, быть всегда сытыми, одетыми в новую одежду и позволить себе держать слуг.
Отъехав от Феса на расстояние двух миль, на дороге в Сефру, будучи уверенным, что все опасности позади, я приблизился к паланкину, убранному шелками, в котором находилась Хиба.
— Вряд ли фессцы припомнят, чтобы кто-нибудь так же гордо отправлялся в ссылку, — довольный собой, бросил я ей.