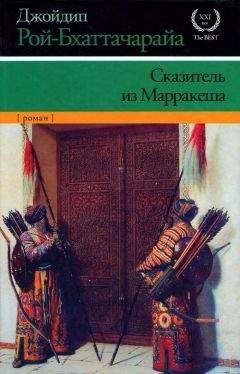— Хасан, я тебя очень люблю. Если ты в беду попадешь, я за тебя жизнь отдам.
— Мы друг за друга жизнь отдадим, — поправил я.
— Да, но сначала я тебя спасу.
— Спасибо, — отвечал я, тронутый настойчивостью брата. — Я этого не забуду.
К моему удивлению, Мустафа поцеловал каменного льва и сунул себе в карман, что было совершенно непозволительно.
— Что ты делаешь? — возмутился я. — Чернильница принадлежит этой женщине!
— Женщина мертва.
— Немедленно положи где взял и не спорь! Мы не воры.
— Теперь лев мой, — заявил Мустафа, и его подбородок упрямо напрягся. — Кто нашел, тот и хозяин. Так мир устроен.
Я не собирался обсуждать с ним мироустройство. Если Мустафе так приспичило взять чернильницу — пусть берет на здоровье. Мне же хотелось одного — найти отца и Ахмеда прежде, чем обрушится дневная жара.
— Ладно, — сказал я. — Раз для тебя эта штуковина такое значение имеет — валяй грабь покойницу. Хорошо, что ты не суеверен.
— Этот лев говорит со мной. Он будет моим талисманом.
— Что-то этой женщине талисман не сильно помог, — фыркнул я. — Пойдем, скоро жарко станет.
Я едва держался на ногах. Ступни увязали в песке, однако мы упорно шли, ориентируясь по солнцу. Хотя оно еще не набрало полную силу, зной уже был жесток. Каждый взгляд на небо причинял боль. Наши тени постепенно истончались. Даже края облаков на горизонте стали неестественно белыми. С медленной неумолимостью наши веки покрывались коркой; в горле давно пересохло. Песок обжигал пятки. На целые мили не было ни малейшей тени. Через некоторое время Мустафа пожаловался, что видит сразу много солнц, и я решил: случилось худшее. Взял брата за руку и потащил. И вот, когда жара стала одерживать верх и надо мной, послышались крики:
— Хасан! Мустафа!
Мы вскинули головы, принялись озираться. Широко раскрытыми глазами проследили, откуда нас зовут. На вершине бархана, впереди, но довольно далеко, стояли, размахивая ярко-красными одеялами, отец и Ахмед. Несмотря ни на что, мы нашли их. Мустафа запрыгал, закричал от радости. Я же просто опустил веки и, счастливый и обессиленный, рухнул на колени.
На этом слове мой единственный слушатель вздрогнул.
— С Сахарой не шутят, это верно, — с важным видом прокомментировал он. — Сам я не бербер, но понимаю, как велика ее власть над вашим народом.
Он помолчал, поглядел на потолок, где уселась муха.
— А странный вам сон приснился, ну, тогда, в пустыне, — произнес он несколько неожиданно. — Вам часто сны снятся?
— Бывает.
— А мне вот не снятся. Если б снились, я бы рассказчиком стал, как вы. А вместо этого сижу в участке, с разномастными преступниками дело имею.
Констебль помрачнел.
— Все упирается в деньги. У меня большая семья. Шесть человек детей — шутка ли. Попробуй прокорми. Бьешься, бьешься…
Констебль снова взглянул на потолок, будто его очень занимала муха.
— Что ж, история интересная, — помедлив, подытожил он. И обратил мое внимание на тот факт, что, слушая меня, изгрыз целую палочку из древесины грецкого ореха. — Раньше такого не случалось, — признался констебль, откашлявшись и сплюнув в железное ведро. — Вы тогда сообщили родственникам беглянки, что нашли ее?
— Сообщили, только их поиски не увенчались успехом.
— Очередное необъяснимое исчезновение?
— Пожалуй.
— Вероятно, труп утащила какая-нибудь зверюга, — предположил констебль.
— Очень может быть.
— Что за кошмарная смерть. Да еще в таком юном возрасте.
Внезапно он прервал разговор и стал оглядываться по сторонам, причем на лице было полное замешательство.
— Какая же тут прорва песка! Сам видел, как уборщица все вымела часа два назад. Откуда что берется?
Констебль повозил по полу мысом ботинка и робко осведомился, нельзя ли поближе взглянуть на чернильницу.
— Это она и есть? — переспросил он, внимательно рассматривая камешек. — Выходит, и брату вашему она удачи не принесла. Зря вы тогда позволили ему забрать чернильницу у покойной. Я бы на вашем месте поскорее избавился от этой штуковины.
— Где мой брат?
Констебль взглянул на часы и буквально подпрыгнул. Он вышел с извинениями и обещанием узнать, почему не ведут Мустафу.
— Я лично его доставлю. Мигом.
Через несколько минут он действительно привел Мустафу.
С ужасом и тоской смотрел я на брата. Больно было видеть его в тюремной робе и кандалах. Лицо у Мустафы было изможденное, измученное, посредине лба — багровая ссадина. За одну ночь брат мой будто постарел минимум на двадцать лет. И в то же время весь облик его дышал спокойствием. Мустафа уселся на казенный табурет и устремил на меня сквозь решетку взор, почти безмятежный. Я молчал, не в силах смириться с его новым, кошмарным положением.
— Ох, Мустафа, Мустафа! — Я наконец дал волю чувствам. — Что же ты наделал?
— Привет, Хасан. С’бах л’кхир. Доброе утро.
Брат говорил тихо и с виду равнодушно, словно отстранился от прежней жизни; я связал это с его положением. Имея в виду ссадину, спросил:
— Тебя били?
Мустафа пожал плечами:
— Такие здесь порядки.
Я поймал взгляд констебля, указал на лицо Мустафы. Констебль покраснел и на несколько мгновений отвел глаза.
Мустафа продолжал смотреть с тем же спокойствием. Потом заметил у меня пластиковый пакет.
— Значит, мои вещи тебе отдали, Хасан. Это хорошо.
Я положил на ладонь каменного льва:
— Где ты его взял?
— Сейчас расскажу, — пообещал Мустафа, со значением косясь в сторону констебля.
— До сегодняшнего дня я помалкивал о том, каким тяжким грузом легло на меня твое давнее мародерство. Не могу отделаться от мысли, что чернильница принесла нам беду.
Мустафа покачал головой.
— О брат мой, впитавший суеверие с молоком матери! Когда ты только хоть чему-нибудь научишься? — И Мустафа по обыкновению взъерошил волосы.
— Вообще-то это не столь важно, но, раз уж мы заговорили о вещах, будь добр, передай мои кассеты, те, что с песнями Халеда,[9] Шеба Мами[10] и диджея Кула, моему другу Омару в Эс-Сувейре. Где его найти, тебе известно. Несколько лет назад ты был у него в магазине барабанов.
— Конечно, передам, — обещал я, дивясь, зачем в такую минуту говорить о старых кассетах.
Мустафа, вероятно, угадал мои мысли, потому что слабо улыбнулся, будто хотел сказать: «Прости, я знаю, для тебя это просто хлам, но в моем мире кассеты имеют большую ценность».
— Что ты теперь намерен делать? — Последний звук еще не растаял в воздухе, когда я понял, насколько дурацкий задал вопрос.
Ответ заставил меня потерять дар речи.
Совершенно спокойным голосом Мустафа произнес:
— Я намерен остаток дней провести в одиночестве и тишине. Я всю жизнь потворствовал своим прихотям: теперь надеюсь найти утешение в тюремной камере. Руководствуясь догматами нашей веры, согласно которым своды мечети суть райские врата, я намерен превратить свою камеру в обитель молитвы. Это будет не слишком трудно. В конце концов, какая еще религия столь же изысканна в своем аскетизме, как ислам?
Я только глазами хлопал; услышанное не укладывалось в голове. Наконец мне удалось произнести:
— То есть ты обратился к вере?
Видимо, голос выдал меня, потому что Мустафа улыбнулся.
— А ты не можешь этот факт переварить, да?
— Не знаю. Просто очень уж неожиданно.
— Ничего, Хасан, ты свыкнешься с этим, как я свыкся. Тебе нужно время, и только.
— Я всегда считал, что именно жажда жизни сделала тебя городским пижоном.
— Все изменилось в тот миг, когда я увидел чужестранку.
Я долго смотрел на Мустафу, гадая, как лучше ответить. Понял, что от ответа ничего не будет зависеть, и сказал только, что действия Мустафы — выше моего разумения.
— А что в них непонятного? — удивился Мустафа.
— Значит, это разочарование в любви привело тебя в тюрьму?
— Я бы иначе выразился. Мне кажется, я выполнил свой долг. Я в ладу с самим собой. Ибо только истинная любовь оправдывает жертвоприношение, я же принес в жертву себя во имя величайшей на свете любви и не жду, не могу ждать за это награды. Я, Хасан, люблю чужестранку всем сердцем, а всякий, кто так любит, готов отказаться от возлюбленной.
— Начать с того, что чужестранка твоей никогда не была! — возразил я.
— Речь не о том, — ответил Мустафа тоном столь обыденным, что я засомневался в адекватности своего брата. С легкой улыбкой он продолжил: — Каждый человек в одиночестве движется к любви, в одиночестве — к вере и к смерти тоже. Но иногда чудный миг — все равно что дверь в рай. Время, что я провел с Лючией, кажется мне вечностью. Разве хоть что-нибудь может сравниться с этими мгновениями чистого, без примесей, чувства? Теперь единственное, чего я хочу, — не расплескать воспоминания; жить воспоминаниями.