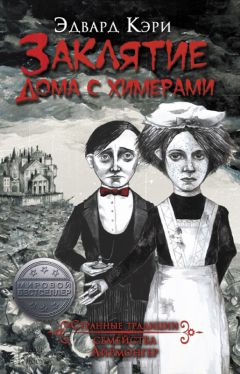В «Трианон Лирик» давали оперетты, которые завсегдатаям этого театра казались «серьезной музыкой»: популярную «Страну улыбок» Франца Легара, «Маскотту» Одрана, «Маленького Дюка» Лекока, «Корневильские колокола» Планкетта. Несколько месяцев тому назад, как-то вечером, когда бульвар был еще весь покрыт снегом, Виржини привела сюда сына, чтоб вознаградить его за хорошие отметки в дневнике. Шла «Мадам Баттерфляй». Сначала Оливье был в восторге, но вскоре заскучал и подумал, что цирк Медрано куда лучше — там он видел клоуна Грока, который так неподражаемо повторял: «Бе-е-з шу-у-у-ток!» — но все же память Оливье сохранила от этого вечера впечатление, что он впервые проник в мир взрослых, где все казалось ему таким роскошным — зал, зрители, а особенно Виржини, надевшая по такому случаю черное платье, расшитое блестками и стразами, да еще ожерелье из искусственного жемчуга фирмы «Текла».
За театром оперетты помещался зал «Элизе-Монмартр», в котором устраивались грандиозные балы и где сводники обычно выслеживали хорошеньких горничных, а еще дальше располагался целый выводок всех этих крохотных эстрадных сцен: «Стрекоза», «Муравей», «Кукушка», «Черный кот», «Два осла», предшествовавших мрачному кабаре «Небытие», вслед за которым можно было заглянуть как в «Ад», так и в «Рай», причем в первом из них через разверстое жерло дверей было видно, как носятся красные чертенята с хвостами в форме стрелы, а во втором похаживают нарумяненные ангелы гомосексуального облика и в свете розовых люстр трясут своими крыльями из картона. Оливье шагал и шагал, обходя огромные озера площадей Пигаль, Бланш, Клиши, порой возвращался, перебегал с одного тротуара на другой, разглядывал круглый шатер цирка Медрано и фотографии, снятые на арене; эстрадный театр «Мулен Руж» со светящимися крыльями мельницы, пивную «Графф», из которой доносилось позвякивание посуды, площадь Анвер со сквериком посредине и «Птичьим кафе», где, как ему представлялось, сидят за своими бокалами канарейки и попугайчики; и дальше перед ним мелькнет то кафе с негритянским джазом, то другое, с цыганами, затем с аккордеонистами и певцами, уговаривающими публику хором исполнять вместе с ними припев; то ресторанчик, откуда валит жирный чад, то странная лестница между двумя стенами, похожая на декорацию экспрессионистского кинофильма, то какая-то красная лавка с зазывалой, одетым в костюм из черного бархата — под певца Аристида Брюана — и с пунцовым шарфом на шее, причем зазывала тащил прохожих чуть ли не за руки; то танцоры, что вышли в антракте на воздух; то книжные лавочки с выставкой в витрине; то мастерская художника или артиста… — и весь этот путь был полон ловушек, встречных людских потоков, гула толпы; ноги людей, непрерывно смыкаясь и раздвигаясь, напоминали циркули, бесконечно что-то измеряющие, а веселье, будь оно искренним или напускным, таило в себе что-то ужасное, как крадущаяся в травах змея, при виде которой холодный пот струйками бежит по спине.
Время от времени Оливье забирался на небольшие лужайки посреди бульвара и разглядывал стариков, сидевших на скамьях и никак не решавшихся идти спать, словно они боялись, как бы их кровать не превратилась уже сегодня в смертное ложе; созерцал влюбленных, нежно сжимавших друг друга в объятиях; наблюдал за всякими искателями приключений, втайне надеющимися на какое-то чудо. А чтобы обрести уверенность, он напевал, сжимал в кулаке коробок шведских спичек, всегда лежавший в кармане, убыстрял шаг, пытаясь скрыться от мира, который хотел заточить его в клетку, — а он вырывался из клейких пут, дрожа, точно испуганный, бьющий крылышками птенец.
Мальчик еще не был голоден, но купил бумажный кулек с жареной картошкой, обильно посыпал ее солью и направился на улицу Лаба, по пути уплетая картошку, только для того, чтоб отвлечься. Он чувствовал себя лодкой, покинувшей привычную реку, чтоб пуститься в безрассудное плавание в открытое всем бурям море. Как и этой лодке, ему был нужен речной причал — его улица. И еще он должен был иметь уверенность, что за каждым окном, какое ни возьми, спят друзья: Бугра, Альбертина, Люсьен, Паук, Мадо и даже Красавчик Мак, которого он, впрочем, недолюбливал.
Оливье наконец добрел до дома номер 77, и ему пришлось звонить много раз, пока привратница дернула за веревку, чтоб открылась входная дверь. Мальчишка прошел мимо ее комнаты и так громко выкрикнул свое имя, что на следующий день она непременно будет ворчать насчет «шалопая, который болтается по улицам». В квартире было очень тихо: Жан и Элоди спали в объятиях друг друга. На столе осталась недопитая бутылка «монбазийяка». Оливье схватил ее, вынул пробку и начал пить прямо из горлышка, пока у него не перехватило дыхание, добавив тем самым еще один грех ко всем своим сегодняшним «подвигам». Затем сбросил одежду и с горящими щеками и пылающей головой зарылся в постель, и сон не замедлил прийти ему на помощь.
*
Лулу и Капдевер ничего не знали о ночных вылазках Оливье — он их держал в тайне. Вместе с приятелями мальчик как-то отважился пойти в то место, которое он считал теперь для себя в некотором роде запретным: к лестнице Беккерель — настоящей спортивной «арене» для ребят, которым нравится съезжать по перилам, особенно там, где они доходят до самой нижней площадки и где скольжению не препятствуют никакие скобы или болты, обычно устанавливаемые для безопасности.
Лулу надел свой матросский костюм, но белые штанишки стали узки и тесно облегали его круглый задик. После нескольких рейдов вниз по перилам на этих штанишках отпечатались коричневые глянцевитые полосы, и Капдевер дал другу совет посыпать их тальком, чтоб мамаша Лулу ничего не заметила, однако сам тут же начал над ним издеваться, выкрикивая: «Зад, как у зебры!» Тогда Лулу исхитрился скатываться с перил в более оригинальной позиции — плашмя, лежа на животе. А потом они съехали все вместе, втроем, усевшись друг за другом, как на спортивных салазках, и плюхнулись прямо на тротуар, в пыль, один на другого.
Когда игра надоела, мальчики пристроились на ступенях и затеяли большую «коммерческую» игру. Оливье предложил обменять свои бабки на карманный ножик, но Капдевер требовал вдобавок еще сто стеклянных шариков. Лулу предложил за ножик волчок, намереваясь на втором этапе обменять этот последний на бабки, но Оливье тем временем передумал, вспомнив про швейцарский нож из лавки Помпона. Торговые операции длились довольно долго. И пресловутая формула «Я с тобой меняюсь на…» повторялась до тех пор, пока дети не начали фантазировать:
— Я меняю носорога на льва, — сказал Лулу.
— А я зебру на жирафу, — прибавил Оливье.
Когда зоология была исчерпана, Капдевер предложил Лулу:
— Меняю своего отца на твоего.
— Еще чего! Как бы не так! — ответствовал Лулу. — Шофер такси — это все же получше, чем какой-то легавый.
Оливье вмешался в спор в качестве арбитра. Под конец, меняя одно на другое, они дошли до того, что стали переставлять Версальский дворец и церковь Сакре-Кёр на Монмартре, а кто-то уступил Эйфелеву башню за Триумфальную арку на площади Этуаль.
Когда Париж основательно перетрясли, решили перейти к делам более жизненным. Очутившись у витрины одного из кондитеров улицы Коленкур, ребята облизывались и гримасничали, привлекая внимание покупателей и продавцов, разглядывали пирожные, приговаривая: «А я больше люблю вот эти с кремом, нет, те — «Пари Брест» (в честь велосипедных состязаний), а я ромовые бабы, что похожи на губки, нет, пухленькие «польские», а я вот эту чепуху — «тысяча листиков»… Все, все перебрали они: и лакированные спички, и пузатых «монашенок», и те, что в виде домиков, крытых черепицей, и тарталетки с фруктами… Внутри кондитерской сидели две дамы в шляпках с цветочками, пили за столиком чай и уже недовольно покачивали головами, так что официантка сделала детям знак, чтобы они ушли. Но мальчишки продолжали научное «исследование» витрины, сопровождая его репликами: «Я бы съел…» и добавляли: «толстый торт», или «вон ту высокую штуку» или «кофейное с шоколадом». Но Оливье выразил общую мечту, задумчиво сказав: