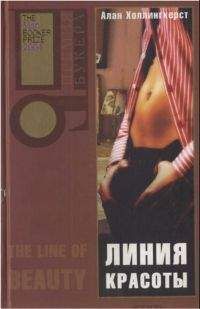Тот уже достал бумажник и сейчас выкладывал и подравнивал на широком бортике ванны щедрую порцию кокса.
— У меня еще много, — сказал он.
— Знаю, — ответил Ник. — А не рановато ли?
Совместный прием кокаина ему нравился, но не нравилось, что Уани относится к порошку как-то… чересчур серьезно, что ли.
— У тебя такой вид… мне показалось, что тебе это не помешает.
— Если только немножко, — сказал Ник.
Ему совершенно не хотелось спускаться к ужину под кайфом и строить из себя дурака, но соблазн был велик, и отказаться почти невозможно. В кокаине ему нравилось все — и как его подравнивают кредитной карточкой, и как вдыхают через свернутую денежную бумажку («Все делается через деньги», — замечал Уани). Осторожно, чтобы не толкнуть Уани под руку, Ник приобнял его сзади и сунул руку ему в левый брючный карман.
— О черт! — отрешенно произнес Уани.
У него сразу встал, и у Ника, прижавшегося к нему сзади — тоже. Все, что они делали, было запретно и потому как-то очень по-детски. Ник не знал, сколько у них времени, и помыслить не мог о том, чтобы остановиться, и в то же время понимал, что ведет себя глупо, непозволительно глупо для своих двадцати трех лет. И именно в этой непозволительной глупости таилась какая-то особая красота. Во фланелевых глубинах кармана позвякивали несколько монеток: они приятно холодили руку Ника, когда он гладил член Уани.
Уани разложил порошок двумя длинными дорожками.
— Прикрой-ка дверь, — сказал он.
Ник неохотно отстранился.
— Хорошо, только на минуту. — Прикрыв дверь, он полез за двадцатифунтовой бумажкой.
— И запри, — сказал Уани. — Этот мальчишка всюду за мной бегает.
— И его трудно винить, — с улыбкой заметил Ник.
Уани бросил на него недовольный косой взгляд — Ник не раз замечал, что он не любит комплиментов. Они по очереди присели и втянули в себя порошок, а потом поднялись, втягивая носом воздух, кивая и вглядываясь друг другу в лицо для подтверждения собственных ощущений. Черты Уани смягчились, на губах появилась невольная улыбка, которую так любил Ник, — улыбка, в которой победа сочеталась с поражением. Ник улыбнулся в ответ и одной рукой погладил его по щеке, а другой, сквозь брюки — по напряженному члену. Обоим было хорошо.
— Отличный порошок, — сказал Ник.
— Черт, это точно, — ответил Уани. — У Ронни всегда первый сорт.
— Надеюсь, ты мне не слишком много насыпал, — сказал Ник; а в следующий миг, обняв и страстно целуя Уани, он уже знал, что возможно все, что долгий томительный ужин превратится в тур вальса, что он очарует всех, начиная с всесильного Бертрана. Он вздохнул и перевернул руку Уани, чтобы взглянуть на его знаменитые часы. — Нам пора вниз, — со вздохом сказал он.
— Ладно. — Уани отступил и быстро расстегнул ширинку.
— Милый, нас же ждут…
Но Уани так на него смотрел, требование в его взгляде так слилось с мольбой и подчинением, и сама мысль, что этот надменный красавец нуждается в нем, что Ник посвящен в его любовные секреты, так возбуждала, что Ник опустился на колени, взял его в руки и, расстегнув, спустил на нем до колен строгие, старомодного покроя, брюки…
На пути вниз им повстречался маленький Антуан, которому не терпелось их увидеть — он уже все комнаты обшарил, ища брата. Они еще улыбались, вспоминая, как у них все никак не получалось смыть резинку в унитаз, и мальчик поинтересовался, что это их так развеселило.
— Я показал дяде Нику свои старые фотографии, — объяснил Уани.
— Ага, очень забавные, — подтвердил Ник, тронутый искусной ложью Уани и в глубине души жалея, что в самом деле их не посмотрел.
— А-а, — ответил малыш Антуан. Он, возможно, сожалел о том же.
— Ты лучше сюда взгляни, — сказал Уани и толкнул дверь в комнату над кабинетом.
Это оказалась спальня его родителей. Уани протянул руку к выключателям — и одна за другой вспыхнули лампы, начали автоматически сдвигаться занавески, и откуда-то издалека послышалась «Весна» из «Времен года». Малыш Антуан явно обожал это представление: ему разрешили повторить все сначала, пока Ник с насмешливым любопытством оглядывался кругом. Все вокруг дышало такой роскошью, что он с шутливым неодобрением покачал головой на собственные глубокие следы на ковре. Сияние полировки, блеск позолоты и огромные зеркала на стенах разбавляла примесь вещей постарше, погрубее и получше, быть может привезенных из Бейрута — персидских ковров и обломков римских статуй. На вершине гардероба стояла белая мраморная голова Уани, должно быть, в том же возрасте, в каком сейчас малыш Антуан, с широким и пухлым детским личиком. Она была очаровательна, и Ник подумал: если бы ему предложили в подарок любой предмет в этом доме, он выбрал бы ее. Гардеробные у Бертрана и Моник были разные, и каждая напоминала соответствующий отдел большого универмага.
— Лучше на это посмотри, — сказал Уани и подвел его к большой желтой картине на лестничной площадке, изображающей Букингемский дворец.
— Это Зитт, как я вижу, — сказал Ник, увидев подпись в правом нижнем углу.
— Скорее подделка под него, — ответил Уани.
— Абсолютный кошмар, — сказал Ник.
— Правда? — ответил Уани. — Слушай, может, тебе удастся донести это до отца?
Они спустились в столовую: малыш Антуан бежал впереди, мотая головой и повторяя себе под нос: «Оба-са-лютный кошмар!» — ему очень нравилось, как это звучит. Уани поймал его сзади и по-родственному встряхнул.
Ника усадили между Моник и малышом Антуаном, напротив дяди Эмиля. Поначалу Ник решил, что дядя Эмиль — классический «брат-неудачник», мешковатый и угрюмый: однако выяснилось, что он — зять Моник и, хотя уже несколько месяцев живет здесь, вообще-то проживает в Лионе, где у него какой-то бизнес, связанный с металлоломом. Выслушав эту историю, Ник заулыбался, словно ему рассказали остроумный анекдот: только легкая нахмуренность Уани заставила его заподозрить, что, возможно, после их совместного путешествия по дому он выглядит слишком уж веселым. Мрачного бесцветного похмелья как не бывало — на смену ему, словно по волшебству, пришло нечто противоположное. Вокруг и в голове все сияло и мерцало. Уани сидел бесстрастный, как сфинкс: Ник подивился его самоконтролю и подумал, стоило ли тогда вообще принимать наркотик. Его отец и мать изящно кушали полупрозрачные ломтики лимонов и дольки апельсинов. К цитрусовым в этом доме явно относились по-особому: в кабинете, на столике у стены, Ник уже заметил роскошную горку искусственных лимонов и апельсинов в каменной вазе. Между окон в столовой висел еще один Зитт, изображающий какой-то елизаветинский особняк.
— Вижу, вы восхищаетесь новым Зиттом моего мужа, — заметила Моник с усмешкой, словно у нее самой было об этой картине другое мнение.
— Э-э… да!
— Настоящий импрессионист, правда?
— М-м… да, иногда даже скорее экспрессионист, — ответил Ник.
— Необыкновенно современный, — сказала Моник.
— Смелый колорист, — ответил Ник. — Даже очень смелый…
— А скажите-ка нам, Ник, — заговорил Бертран, расправляя на коленях салфетку и подравнивая лежащие перед ним в ряд ножи, — как поживает наш друг Джеральд Федден?
«Наш» могло относиться равно и к ним двоим, и ко всему семейству, и просто обозначать, что Джеральд и Бертран — на одной стороне.
— О, у него все отлично, — отвечал Ник. — Он в прекрасной форме. Ужасно занят, как всегда…
Бертран не отрывал от него добродушного, но настойчивого взгляда, словно говоря: «Да ладно, мальчик, мне-то можешь говорить все, как есть!» Чувствовалось, что первые полчаса Бертран великодушно позволял гостям забыть о своей персоне, но теперь намерен восстановить свои права.
— Вы ведь у него живете?
— Да. Приехал погостить на несколько недель, а в результате живу у них уже почти три года!
Бертран кивнул и пожал плечами: видимо, для него это было вполне нормально. Возможно, примерно так прижился в доме дядя Эмиль.
— Я знаю, где это. Мы на следующей неделе туда приглашены. На концерт, кажется, или что там будет. С радостью, с радостью придем.
— Замечательно, — сказал Ник. — Я уверен, будет очень весело. Пианистка — настоящий талант, восходящая звезда, из Чехословакии.
Бертран нахмурился.
— Мне говорили, человек хороший.
— Ну, я не знаю… ах, вы имеете в виду, Джеральд — да, конечно!
— Быстро он идет в гору. Пожалуй, и года не пройдет, как поднимется на самый верх. Как вы полагаете?
— Я… честно говоря, не знаю, — промямлил Ник. — В политике я совсем не разбираюсь.
— Да-да, — добродушно пробасил Бертран, — вы же у нас этот… как его, черт… эстет…
Ника часто расспрашивали о положении и перспективах Джеральда, и, как правило, он старался сохранять лояльность. Но сейчас он сказал: