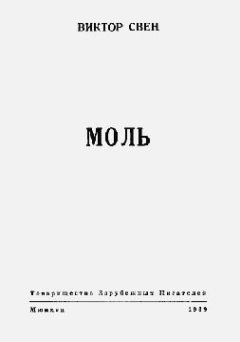— Смотри, Сонька! Татьяну разыгрывай без ошибки. Без осечки! Не вздумай там чего-нибудь такого, ну, раньше времени. Понимаешь? Нам надо взять не только Вольского. Он уже в наших руках! Главное — нужно добраться до всех его корешков. И до полковника Лукашевича. Поняла требование революции?
— Это я уже давно поняла.
— Ага, поняла? Тогда закручивай. Помнишь француза в Одессе? Французик нашел Татьяну, а потерял секретные документы. Жаль, что сам француз ускользнул. Ну, чёрт с ним! А вот Вольский нужен целиком. Учти!
— Учту! — крикнула Сонька, оттолкнув протянутые к ней руки начальника. — Договорились…
— Ты чего такая? Сердитая сегодня.
— Да как бы сказать? Может быть я хоть раз хочу испытать до конца, как это быть настоящей Татьяной.
— Ну, — с удивлением протянул начальник. — Из Соньки — да в Татьяну? Во имя революции? По заданию чека? Одобряю!
— Смеяться нечего! — со злостью бросила Сонька и поднялась со стула.
— Какой тут смех! О тебе, о чекистке Соньке, может книгу кто напишет. Под названием: «Татьяна из ЧК».
— Вряд ли напишут, — сказала Сонька и, подумав, добавила: — Нет, не напишут. Так Сонькой в архиве и останусь. А почему была такая Сонька и как стала Сонькой — разве ж об этом можно открывать людям?
— Ты сегодня чего-то в расстройстве, — грубо оборвал начальник. — Иди! Действуй!
Она действовала. И чем дальше действовала, тем острее и острее чувствовала себя уже не совсем Сонькой, а какой-то другой, иногда до того другой, что даже имя Татьяна казалось лекарством, помогающим от какой-то внутренней, не совсем понятной боли.
И всё-таки она регулярно появлялась в кабинете начальника секретно-оперативного отдела, рассказывала обо всем, вплоть до того, что Феликс Вольский объяснялся ей в любви и предлагал «перебросить» за границу.
— Рано еще! — приказал начальник. — Веди игру дальше. Заставь его раскрыть все карты. Может быть… ну, ты это знаешь как сделать! Можешь намекнуть, что и сама готова вступить в «конспирацию».
Она опять и опять встречалась с Вольским и, наконец, поняла, что дальше играть уже не может.
Не может, и всё! Была ли она до конца искренней в этом «не может?» Решение «не может» сложилось неожиданно, в тот момент, когда она, в пустом фойе драматического театра, стояла перед громадным зеркалом и в нем рассматривала самое себя.
В зеркале она увидела Татьяну, по-настоящему полюбившую этого чужого ей «краскома» Феликса Вольского.
«Переиграв» свою роль, изменив сама себе — она в один день сказала о себе всю правду, предупредив Вольского, что ровно в три часа ночи в его комнату явятся чекисты.
— Всё, — сухими губами прошептала Сонька, — исчезайте. Завтра — будет поздно.
— Татьяна! Я не верю, Татьяна…
— Татьяны больше нет. Я — Сонька! Всегда была Сонькой.
Ничего больше не сказав, она повернулась и ушла. Двигалась она медленно, но когда скрылась за углом, Вольскому показалось, что его жизнь стала пустой и безнадежной. Так рушатся и гибнут яркие сны, и на человека с открытыми глазами наваливается бесконечность ночи.
Вольский оглянулся и впрямь увидел себя стоящим в темноте. Темнота помогла восстановить действительность. Действительность родила благоразумную мысль о том, что с этой самой минуты он обязан действовать иначе, отступить, уклониться куда-то в сторону.
Это не была трусость. Это было ясное сознание ответственности не за себя, за других, за полковника Вадима Лукашевича, за всех тех, с кем он был связан.
Он уже шагал по Прорезной улице, но вдруг остановился и после короткого размышления свернул влево. Он направлялся к себе, на Фундуклеевскую, вряд ли соображая, что делает это из желания спасти чувство к Татьяне.
Поднявшись в свою комнату на втором этаже, Вольский стал прислушиваться. Всё было по-обычному. Этому он не удивился, вспомнив, что «то» должно произойти позже, в три часа ночи.
Боялся ли он того, что случится? Он и сам не знал, думая теперь только о Татьяне, отказываясь верить, что никакой Татьяны нет.
Потом он протер глаза, как будто проснувшись. Действительно, может быть всё — только сон?
Вдруг он с удивлением обнаружил, что сидит в полной темноте. Ну, да, сказал он себе, ведь я пришел домой вечером. Так, восстанавливая все детали возвращения домой, ему уже легко было догадаться, что сидя на этом стуле он и уснул. И вот теперь — ночь.
Он зажег спичку и взглянул на часы. Часовая стрелка приближалась к цифре «3».
Если правда, подумал он, что Татьяны не было и нет, тогда…
Не слух, а какой-то внутренний толчок заставил его подняться со стула и осторожно подойти к окну. За стеклами была темнота, чуть-чуть рассеиваемая светом единственного на углу улицы электрического фонаря, горящего в полнакала. Оттуда, от угла, прижимаясь к стенам, цепочкой и крадучись, двигались кожаные куртки.
Все сомнения исчезли. Подтянув ремень, поправив в кармане кольт, Вольский открыл дверь и, придерживаясь за перила лестницы, спустился вниз. Выходная дверь была заперта.
«Если они за мой, — подумал он, — у них есть ключ». Он отодвинулся вправо, втиснулся в узкую пройму двери, ведущую в подвал и затаился.
По ту сторону двери угадывался приглушенный разговор. «Обо мне, конечно», — подумал Вольский, а когда заскрежетал осторожно поворачиваемый в замочной скважине ключ, сунул руку в карман.
Холодная, привычная тяжесть кольта вызвала мысли, в общем-то не имеющие никакого отношения к тому, что тут происходит и что должно произойти.
«Татьяны не было», — думал он, наблюдая, как медленно приоткрывается парадная дверь.
— Ну и тьмища! — шепнул один из вошедших. — Зажги спичку.
— Что ты! Приказ забыл? Двигайсь за мною. Двое остаются внизу.
Предположение затаившегося в темноте Феликса Вольского, что все поднимутся на второй этаж не оправдалось. Он попробовал было определить, сколько чекистов крадется по лестнице.
«Не меньше шести», — решил Вольский и когда шаги затихли где-то наверху, он кинулся к выходу. Не понимая, что такое происходит, чекисты, караулившие выход, шарахнулись в сторону.
Феликс Вольский оказался на улице. Обычно такая широкая Фундуклеевская вдруг превратилась в узкую ловушку.
Феликс Вольский бросился бежать. Когда с тончайшим свистом скользнули пули, он инстинктивно прижался к стене дома и вдруг, совершенно неожиданно, заметил полуоткрытую дверь подъезда.
Вначале он этому не поверил. Да и трудно было поверить, так как по приказу коменданта города все двери подъездов с наступлением темноты запирались на замки до семи часов утра, и дворники имели право открывать их только по требованию патрулей или команд, производящих обыски и аресты.
Но дверь всё же была открыта. В этом не могло быть сомнения. Возникла иллюзия спасения. И тут же погасла: Феликс Вольский подумал, что за этой дверью — тоже ловушка.
Он бросился в ловушку, утешая себя мыслью, что — во всяком случае — пуля для самого себя у него найдется.
За дверью была пустота. Феликс Вольский поднял голову. На самой верхней лестничной площадке чуть-чуть светилась крохотная электрическая лампочка.
Он быстро взмахнул на третий этаж. Сердце гулко отсчитывало, он и сам не знал — что? Прожитые годы или остающиеся минуты? Так и не разобравшись в сигналах своего сердца, он глянул вниз, в лестничную клетку. Внизу была темная бездна.