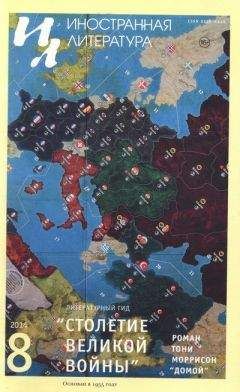Отныне тело Симона Лимбра превратилось в пустую оболочку. То, что, уходя, оставляет за собой жизнь и что смерть раскидывает по полю брани. Тело, над которым надругались. Скелет, остов, кожа. Кожа парня медленно приобретала оттенок цвета слоновой кости; казалось, она затвердевает на глазах в ярких лучах искусственного света, изливающегося из хирургических ламп; казалось, эта кожа становится сухим панцирем, нагрудником, доспехами; шрамы на брюшной полости напоминали о смертельном ударе: копьё вонзается в бок Христа, лезвие шпаги протыкает плоть, рыцарский меч вскрывает живот. Возможно, воспоминание о движении иглы подсказало Тома мелодию, вырвало из груди песню аэда, рапсода Древней Греции; или лицо Симона, красота этого молодого человека, порождённая морской волной, его кудрявые волосы, слипшиеся от соли, гривы товарищей Одиссея, взволновали медбрата; или этот крестообразный шрам — неизвестно, что подтолкнуло его, но Тома запел. Очень тихое пение, едва различимое для того, кто оказался бы в одной комнате с Ремижем; пение, синхронизированное с обрядом омовения и одевания покойника; пение, которое сопровождало и описывало; пение, которое хранило.
Весь материал, необходимый для обмывания тела перед отправкой в траурный зал госпиталя, лежал на каталке. Тома надел одноразовый фартук поверх халата, натянул одноразовые перчатки, приготовил полотенца — тоже одноразовые, предназначенные только для Симона Лимбра, — мягкие марлевые салфетки и жёлтый пластиковый пакет для мусора. Тома начал с того, что закрыл молодому человеку глаза и рот, используя для этого специальные сухие тампоны. Затем Ремиж скатал два куска ткани: один он разместил под затылком, чтобы зафиксировать шею, второй — между подбородком и грудной клеткой. Наконец, Тома отсоединил от тела всё, что его опутывало, — провода, трубки, перфузионные катетеры и мочевой зонд: он освободил тело от всего, что мешало ему, что оплетало, пронзало и загромождало его; медбрат очистил труп от всего лишнего — и теперь тело Симона Лимбра предстало в сиянии хирургических ламп ещё более обнажённым, чем когда-либо: тело, катапультированное за пределы людского мира; неодушевлённая материя, смущающая душу; материя, перенесённая в магматическую ночь, в бесформенное, бессмысленное пространство, в сущность, которой пение Тома дарило новую значимость и которую возвращало на землю. Это тело, изуродованное жизнью, обретало своё утраченное единство под руками медика, которые омывали его; обретало единство благодаря тихому пению; это тело, с которым произошло нечто незаурядное, отныне возвращалось к — смерти, возвращалось в мир людей. Оно преображалось, оно становилось темой для восхваления.
Тома мыл молодое тело; его движения были уверенными и лёгкими; его красивый голос как бы отталкивался от тела, чтобы не «соскользнуть», а ещё — чтобы окрепнуть; этот голос отвергал любой язык: он освободился от всего земного, чтобы переместиться в то место космоса, где встречаются жизнь и смерть; голос мерно вдыхал и выдыхал; он управлял рукой, в последний раз скользившей по выпуклостям тела, обследуя каждую его складку и каждый квадратный сантиметр кожи, в том числе татуировку на плече — изумрудно-чёрную арабеску, нанесённую в то лето, когда Симон сказал себе, что его тело принадлежит ему и только ему, что это тело отражает его мысли. Теперь Тома закрывал и заглаживал отверстия в тех местах, где катетеры пронзили кожный покров; он прикрыл тело простынями и даже причесал его, чтобы лицо вновь стало прекрасным. Когда Тома оборачивал пустую оболочку чистой материей, песня наполнила весь оперблок; потом он обвязал простыню вокруг ног и головы Симона — и если бы кто-нибудь видел, как работает медбрат, то он представил бы себе похоронные ритуалы, позволяющие сохранить первозданную красоту греческого героя, осознанно шагнувшего умирать на поле битвы, чтобы города, семьи и поэты смогли воспеть его имя и восславить его жизнь. Это была прекрасная смерть — и это была песня о прекрасной смерти. Не возвышенное жертвоприношение, не восторженная душа, которая кругами возносится к Небу, но строительство: Тома Ремиж восстанавливал своеобразие Симона Лимбра. Он реконструировал обитателя дюн с зажатым под мышкой сёрфом; он заставлял молодого человека мчаться навстречу берегу с другими серфингистами; заставлял его драться с обидчиками: сжатые кулаки расположились на уровне лица; заставлял его прыгнуть в оркестровую яму, танцевать до упаду и спать на животе в детской кроватке; он заставлял Симона подхватывать на руки Лу и кружить её в воздухе: маленькие пятки летают над полом; заставлял усесться ночью напротив матери, курившей на кухне, чтобы поговорить с ней об отце; заставлял раздевать Жюльетту и протягивать девушке руку, чтобы та бесстрашно спрыгнула со стены, огораживающей пляж; он проталкивал его в посмертное пространство, где смерть уже не властна, — лишь вечная слава, пространство мифов, песен и писания.
Корделия вернулась через час. Поднявшись наверх, она обошла отделение, открывая двери одну за другой, осмотрела посленаркозные палаты, проверила показания приборов у кроватей пациентов, отрегулировала капельницы, отметила диурез у нескольких больных; она склонялась к спящим, чьи лица порой искажало страдание; она наблюдала за их позами, вслушивалась в их дыхание — а потом снова спустилась к Тома. Девушка застала его поющим: она услышала пение ещё до того, как зашла в операционную, — теперь голос звучал во всю мощь; смутившись, Корделия застыла на пороге, спина прижата к двери, руки повисли вдоль тела, голова откинута назад, и слушала.
Через несколько мгновений Тома поднял глаза. Ты вовремя пришла. Корделия подошла к столу. Белая простыня вновь окутывала Симона; она оттеняла черты его лица, прозрачность кожи, мягкость губ. Тома спросил: он красив? Да, очень красив. Их напряжённые взгляды встретились; Корделия и Тома вместе подняли труп в саване, который по-прежнему весил немало, переложили его на каталку и вызвали работников траурного зала. Завтра утром тело Симона Лимбра отдадут семье: Шону и Марианне, Жюльетте и Лу, близким родственникам, — его вернут им ad integrum.[133]
* * *
Самолёт приземлился в Бурже в 0:50. На счету была каждая секунда. Пассажиров уже ждал спецтранспорт с терморегуляцией воздуха, предназначенный именно для таких миссий; на дверцах выделялась надпись «Приоритетный проезд: трансплантация органов». Не было никакой суеты, и хотя напряжение было почти осязаемым, ничто не напоминало постановочные телерепортажи во славу трансплантологов и героических личностей, принимавших участие во всей операции, — ничего похожего на эту истеричную пантомиму: секундомер, пульсирующий красным цветом в углу телеэкрана; вращающиеся мигалки; группы мотоциклистов в чёрных сапогах и белых касках; полицейские со сжатыми челюстями и бесстрастными лицами, перекрывающие движение, подняв большой палец. Всё шло своим чередом; ситуация просчитана — в этот час движение на автострадах ничем не затруднено: поток горожан, возвращающихся воскресным вечером в столицу после уикенда, уже иссяк; впереди маячил Париж, накрытый корпускулярным куполом света. Когда они проезжали Гаронор, раздался телефонный звонок из операционной: пациентка на столе, начинаем её готовить; вы где? В десяти минутах от Ля-Шапель. Мы укладываемся в отведённое время, прошептал Вирджилио и взглянул на Алис: профиль ночной птицы, большой лоб, крючковатый нос, прекрасная шелковистая кожа, возвышался над меховым воротником белого пальто; а у неё ведь и впрямь голова Арфанга, подумал Брева.
В районе Стад-де-Франс они встали. Вирджилио выпрямился, напрягся. Что там происходит, чёрт возьми? Водитель не шелохнулся. Это всё матч: не хотят расходиться. Пробка собрала большое количество машин; во многих автомобилях с открытыми окнами сидели молодчики, опьянённые радостью победы; они размахивали итальянскими флагами: полотнища, закреплённые на длинных палках, реяли в холодном воздухе; тут же стояли междугородние автобусы, зарезервированные ассоциациями болельщиков; дальнобойщики в своих грузовиках-холодильниках тоже оказались пойманными в эту сеть, сплетённую из всеобщей эйфории. Водитель спецтранспорта трансплантологов, вклиниваясь в скопище машин, резко нажал на гудок. Алис вскрикнула, Вирджилио изменился в лице. Сантиметр за сантиметром автомобиль продвигался вперёд, выискивая свободное пространство между кузовами стоящих машин; наконец он добрался до выделенной аварийной полосы и прибавил газу: так они проехали около километра, миновав несколько столкнувшихся машин; затем водитель вырулил на пустое шоссе, выжал газ, и огни металлического разделительного ограждения слились в единую длинную прямую. У Ля-Шапель они снова попали в затор. Поедем по периф.[134] Окружная дорога, ожерелье столицы, отсчитывала свои съезды-жемчужины по длинной кривой от Порт-Обервилье до Порт-Берси; там машина свернула направо и въехала в Париж, набережная Сены, башни Библиотеки; потом поворот налево — и они уже поднимались по бульвару Венсана Ориоля; затем водитель притормозил у Шевалере, свернул на территорию госпиталя и остановился у хирургического корпуса. Тридцать две минуты: неплохо, улыбнулся Вирджилио.