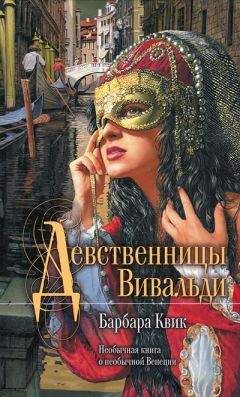Мне так и не удалось завести новых подруг среди comun. Все здесь знали, откуда я взялась, и наверняка злорадствовали, видя, как я свалилась с таких высот. Паолина держалась со мной по-прежнему сердечно, но мы виделись редко, поскольку гладильня располагалась в противоположном от мыловарни конце здания.
Я носила нераспечатанное Марьеттино письмо под рубашкой больше суток, пока не нашла подходящее время и место, где меня никто не видел бы. Я читала и перечитывала его столько раз, что выучила наизусть.
Меж тем, день за днем выбирая из золы угли и перемешивая щелок в котле над огнем, я чувствовала, как угасает пламя моей собственной жизни. Не только пища питает нас, и не одни молитвы просвещают нас на пути к Господу. Осень сменилась зимой, а я, словно призрак, влачила свое существование среди figlie di comun. На Рождество я вместе с ними ходила в церковь и слушала ораторию в исполнении моих бывших соучениц. Мне это живо напомнило о ночи на балконе в Са' Фоскарини, когда божественные звуки coro доносились снизу, а я смотрела на девочек сверху, словно дух, который взирает на живых из земли мертвых. Только перестав быть Анной Марией даль Виолин, я ясно осознала, кем я была и какая судьба ждала меня, — увы, осознала слишком поздно. Я чахла от непосильного труда на мыловарне Пьеты, и прежняя жизнь была мне отныне заказана.
В отличие от девушек, работавших в прачечной с десяти лет, я была объектом неусыпного наблюдения дежурной наставницы, невзлюбившей меня так же явно, как и воспитанницы, работавшие под ее началом. Ворота на ночь запирали на засов, а приставленный к ним привратник с явным удовольствием просиживал там штаны, болтая о том о сем со слугами и торговцами и рявкая на менее привилегированных обитателей ospedale, желавших хоть одним глазком выглянуть за ворота и посмотреть, что делается на белом свете.
Вскоре после моего появления на мыловарне я, встретив Паолину в трапезной, спросила, возьмется ли она доставить мое письмо, если я ухитрюсь написать его. Паолина с оскорбленным видом лишь покачала головой.
Мне хотелось попросить помощи у Сильвио — но о какой помощи? Если бы даже я сбежала, куда мне было идти? Без медальона, единственной моей ценности, я не смогла бы заплатить ни за дорогу, ни за хлеб. Я гадала, что сталось с ним и прочей небогатой коллекцией моих личных вещиц, спрятанных под кроватью, — перьями и чернилами, сургучом для писем и песком для присыпки бумаги, а также печатью с моими инициалами. И еще я гадала, что сказали обо мне остальным девочкам. Руководство предпочитало держать дерзость воспитанниц и их открытое неповиновение в тайне, чтобы не вызвать у других такие же бунтарские настроения. Наверное, теперь все думают, что я заболела или, по примеру Джульетты, сбежала из приюта. Может, они даже уверены, что я уже умерла.
Мне было невыразимо жаль, что я не смогла передать медальон Сильвио, как собиралась. Уж не присвоила ли его какая-нибудь девушка? У меня все внутри переворачивалось, стоило мне представить, как Бернардина стискивает его в веснушчатом кулаке. Или его все же изъяла настоятельница? Ведь Сильвио думает, что я спокойно добралась до своей спальни. Может, он до сих пор шлет мне весточки — весточки, которые никогда уже до меня не дойдут.
Я подумала было, не сможет ли Марьетта мне чем-нибудь помочь, но тут же поняла, что все ее мысли сейчас заняты оперой и грядущей свадьбой; к тому же я твердо знала: не тот она человек, чтобы поставить под угрозу свое собственное благополучие ради кого-то другого.
Неотступно думала я и о Франце, хотя понимала, что едва ли нам суждено когда-либо встретиться на этой земле.
По мере того как дни сбивались в недели, а недели — в месяцы, мои разрозненные желания сливались в единственное устремление: взять в руки скрипку и заставить ее петь. Мне уже было совершенно все равно, кто мои родители и какая судьба ожидала бы меня, если бы они нашлись. Я хотела, чтобы вернулась моя прежняя жизнь. Я хотела лишь одного — вновь стать Анной Марией даль Виолин.
Здесь же все дышало отчаянием. Я была уверена, что навсегда останусь среди figlie di comun, вечно буду просеивать золу и перемешивать в котлах жир и щелок, пока какое-нибудь увечье не избавит меня от работы или пока я не умру от тоски. С уходом подруг, с предательством сестры Лауры, говорила я себе, меня очень скоро забудут. Даже маэстро найдет себе другую скрипачку, которая сможет опробовать его только что написанные сочинения; это ее имя он теперь будет черкать в верху нотного листа. Господь отвергнул меня, потому что я бездумно расточала дарованные Им блага.
Мне пришлось выпрашивать бумагу, перо и чернила с полдюжины раз, прежде чем мне их дали. Тогда я написала два письма — настоятельнице и правлению, где клятвенно заверяла, что полностью осознала прежние заблуждения и что теперь мое единственное желание — провести остаток жизни в Пьете, в смирении и покорности, снова получив дозволение играть.
Много раз перечитав послания и удостоверившись, что лучше написать уже невозможно, я отдала их синьоре Дзуане, которая как carica командовала девушками и женщинами, работавшими на мыловарне и в прачечной. Принимая от меня два аккуратно сложенных листка, она посмотрела на меня почти ласково и заверила, что проследит за доставкой моих писем. Я вновь ощутила вкус надежды.
Уже прикрывая за собой дверь, я все же решила вернуться и еще раз поблагодарить синьору Дзуану за готовность мне помочь. Я понимала, что у нее нет для этого особых оснований, и столь редкое проявление доброты наполнило мне сердце теплом.
Снова переступив порог, я не сразу осознала происходящее: синьора Дзуана стояла на коленях под чаном со щелоком. Одной рукой закрываясь от жара, другой она совала мои письма в огонь. Листки тут же занялись пламенем — сначала ярко-зеленым, затем желтоватым, и постепенно от них осталась печальная серая горстка, окаймленная рыжими сполохами. В беспомощном молчании взирала я на то, как мои мольбы и надежды на помилование обращаются в пепел.
В душе моей поселилась тупая отрешенность. Дни тянулись за днями, скапливались в недели, потом в месяцы. Лежа вечером в постели, я смотрела на свои руки и плакала, потому что это были уже не мои руки. Кожа на пальцах покраснела, загрубела и потрескалась. Когда становилось холоднее, пальцы на левой руке деревенели настолько, что не годились бы для исполнения даже самого неспешного из пассажей маэстро. Чувствуя, что гибкость рук стремительно утрачивается, я пыталась восстановить ее, время от времени упражняясь в аппликатуре и смычковой технике на воображаемом инструменте. Прок от этого был ничтожным, поскольку я так уставала к ночи, что не могла посвящать подобным занятиям много времени.
Соседки по кровати презирали меня, потому что я не интересовалась их сплетнями, а вся была поглощена мыслями о музыке, о том, что музыка еще не умерла в моей душе. Не раз я слышала их пересуды о себе самой — насмешки над моими упражнениями и над моими глупыми надеждами на то, что я когда-нибудь снова смогу играть.
Весной синьора Дзуана велела мне явиться в лечебницу.
— Но я не больна, — возразила я, пряча глаза.
С того дня, как она сожгла мои письма, я избегала встречаться с ней взглядом.
— И тем не менее тебя туда вызывают.
Я пошла в чем была, припорошенная пеплом, который теперь постоянно покрывал меня, так что я выглядела скорее седовласой дамой, нежели пятнадцатилетней девушкой.
Дежурившая на дверях санитарка провела меня через главную палату, где кашляли и тихо постанывали больные, мимо спящих и бодрствующих пациенток с остекленевшим взором. Затем мы оказались у некой двери, постучались и были впущены в другую, меньшую палату с окном, выходящим во внутренний дворик. Там шел дождь.
В комнате на кровати лежала сестра Лаура, хотя я даже не сразу узнала ее. Лицо у нее было одутловатым, землистого оттенка, а некогда голубые глаза покраснели и воспалились — совсем как в ту ужасную ночь. Тем не менее при виде меня они словно озарились внутренним светом, выказывая мне прежнюю доброту и привязанность. Вспомнив, что наговорила ей тогда, я преисполнилась раскаянием.
Врач, сидевший у ее постели, отозвал меня в сторонку:
— Ты хорошо ее знаешь?
— Это моя первая наставница, — ответила я. — Она всегда была мне другом.
Я не стала ему рассказывать о нашей последней с сестрой Лаурой встрече.
Он лишь покачал головой:
— Тогда тебе лучше прямо сейчас сказать ей последнее addìo и благословить в последний путь. Мы уже позвали священника.
— Но почему? — не понимала я. — Что с ней стряслось?
— Воспаление легких, горячка и бред. Наши средства были на этот раз бессильны. Она хотела видеть тебя.
Я опустилась на колени у постели больной и взяла ее за руку — почти ледяную, словно сестра Лаура уже скончалась. «Figlia!», — прошептала она едва слышно, а потом все ее тело сотряс жестокий приступ кашля. Я держала ее за руку и терпеливо ждала, пока прекратится кашель, а потом поцеловала в лоб так же, как когда-то она меня.