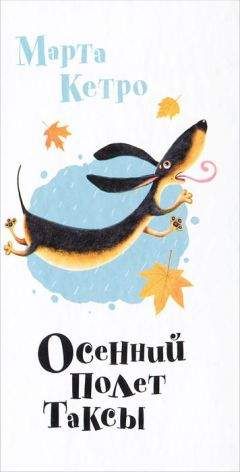— А на что вы тогда рассчитываете? — спрашивает она. — За вами никто не пойдёт, из тех, кто мог бы.
— Вы думаете, большое счастье вами водительствовать? — Принцесса вновь смотрит на картинку и неопределённо хмыкает. — Преподавание — это сочетание неприятного с бесполезным.
— Полезное лакомство.
— Полезных лакомств не бывает. Это рыбий жир полезный.
— Скучный, как обезжиренный творОг! — отчаянно выпаливает Анечка. Все на неё смотрят.
К месту, а ещё чаще — не к месту, Анечка демонстрирует свою благонадёжность. Конфетки у неё всегда завёрнуты в фОльгу, висельники подвешены в пЕтлю, гренОк так гренОк, творОг так творОг, апострОфы, дОгматы и фенОмены стоят прочные, как столбы, мастерскИ стоят; судьи — сплошь нелицеприятные, а довлеет лишь злоба дневи, ага.
И вот, я заметил, что Анечкины сокурсники почти не смеются, а если посмеиваются, то ласково, ободряюще, не то что поржать; формат «поржать» — дело прошлое, дело забытое. С тех пор и толстая барышня, и бледный юноша успели заглянуть в словарь и призадуматься. Анечкин авторитет, увы, от этого не вырос и не вырастет ни от чего никогда. Зато авторитет словарей поднялся.
— Ещё вопросы?
Нет у них вопросов. Как и у Принцессы нет равных в умении покупать себе врагов дешёвой ценой.
— Давайте зачётки.
Они получают свой зачёт и уходят недовольные. Я чешусь и думаю: а ну как вправду блохи?
Шизофреник
Праздничное предновогоднее томление было в воздухе, когда я ехал на встречу с моим принципалом. Тематически разукрашенный, но без единой крупинки снега город выглядел… ну, я бы употребил слово «свирепо». (Свирепый; лютый, неукротимый, жестокий, кровожадный, исступлённый, нещадный.) Таким он и был, жестоким и нарядным, как тигр, надевший для охоты свою лучшую шкуру, — и если один тигр не покажется самым убедительным символом свирепости, то можно представить многое множество тигров — вот в этих слепящих витринах прятались они, среди этих нещадно взнузданных гирляндами деревьев, — или, вероятнее, сами ими были, витринами и деревьями в огне.
В автобусе я сел к окошку и, хотя жил вовсе не на окраине, по мере приближения к настоящему центру словно открывал глаза — разглядеть получше оскал великолепного чудовища — и тут же их жмурил. Я был не нужен этому городу даже в виде добычи (тигры ведь не охотятся на мух), и всё равно дрожал. По стеклу, покрытому с той стороны каплями дождя и смутными нечитаемыми следами стёртой рекламы, упорно текли разноцветные струи света: мешаясь, но не смешиваясь вполне с водою, — и всё увиденное сквозь них приобретало саднящую кинематографичность. Было совсем не поздно и совсем темно, мы ехали ровно, гладко, в тот час, когда люди, возвращаясь по домам, спешат в обратном направлении (забитая встречная полоса только угрожающе, по-змеиному вздрагивала и почти не двигалась), и это ещё безвозвратнее, с большими напором и силой удаляло, вычёркивало меня из жизни, и когда потом я шёл по Невскому, плотная толпа на тротуаре казалась мне непроницаемой, как стена под лучом проектора, и — хотя вот она, протяни руку — далёкой, нездешней, навсегда оставшейся в неведомом зрителю месте съёмок.
На моё счастье, он уже был на месте. Едва я вошёл и заозирался (и страшно, дурно мне стало, стоило увидеть и услышать лица и голоса этого густого ада), как увидел его за угловым, на умеренном отшибе (так, чтобы секретность свиданий не афишировала самоё себя, не вопила во всё горло: «здесь шепчутся и злоумышляют!», как делают это, в ином интерьере, места для поцелуев), да, простите, за угловым столиком перед безрадостной горкой еды, к которой он не притрагивался.
Он мне кивнул. Придвинул большую чашку с кофе и всё остальное. Полушутливо, полубеспомощно развёл руками.
— Понимаю, что не едите, но хоть что-то. Приходится для конспирации. Будете включать в расходы — не стесняйтесь. В конце концов, мы подвергаем здесь неоправданному риску не только желудок, но и психику.
— Спасибо, мне хватает. Я получаю пенсию.
— Пенсию?
— Ну да, от государства. По инвалидности.
У меня была очень хорошая пенсия — почти шесть тысяч рублей, и она продолжала расти. С учётом скидки на коммунальные платежи и лекарства, с учётом одиночества, отсутствия крупных трат (а на что мне было тратиться? женщины, спиртное и модные технологии существовали в каком-то другом мире, не только запретном, но и буквально недосягаемом) и продуманности мелких, выходило больше, чем безбедно, безбедно с развлечениями: билет в кино, пирожные, ароматическое эфирное масло. (И также надо заметить, что все главные развлечения человеческой жизни вообще бесплатны: прогулка по парку, если хватит духу выйти, беседа с людьми, если хватит сил заговорить. Музыку я слушал по радио, новые книги брал в районной библиотеке.) А вещи, подкопив, покупал добротные — и носил их подолгу, хотя вот, например, в следующем году предстояло, согласно расписанию, купить новые ботинки и тёплую куртку, и уже был готов целевой фонд — который я мог при необходимости пустить теперь на агентские нужды, тем более что они и их прогнозируемые последствия делали вопрос о новых ботинках — как знать! — всё более неактуальным.
— Надо ж так глубоко законспирироваться, — сказал он с одобрением. — А трудностей не возникает?
Что он имел в виду под трудностями и что, говоря о том же предмете, мог бы иметь в виду я, следовало немедленно прояснить, пока недоразумение не стало основанием всего последующего. Я сглотнул. В чашке, из которой я всё не решался отпить, густела неприятная, какая-то неживая — чуть ли не пластмассовая на вид — плёнка.
— Все расходы фиксируйте, — сказал он твёрдо. — Вы считаете справедливым заставлять человека посещать подобные заведения, и чтобы он ещё и платил из своего кармана? На такие мелочи простого чека достаточно, на что-либо крупное берите товарный. Машину будете покупать?
С моей группой инвалидности мне и велосипеда бы не продали.
Я беспомощно затряс головой и — первое, что попалось под руку, — схватился за булочку. То есть это было нечто среднее между булочкой и бутербродом — как бы многослойный бутерброд, окутанный со всех сторон булочкой, — и главная проблема с ним заключалась в невозможности протолкнуть это сооружение в рот так, чтобы спокойно и не пачкаясь откусить. Я поискал взглядом на столе вилку и ножик (их не было), поискал взглядом по сторонам прецеденты (от них меня замутило) и так и замер с этой вещью в руках, единственный плюс — хоть руки оказались заняты. Зато, пока я мучился, он успел вспомнить про мою инвалидность сам.
— А, ну конечно. Что ж, за такие безупречные бумаги нужно расплачиваться. Возможно, если не машина, то поездка в Швейцарию по состоянию здоровья? Если получите субсидию и у нас, и в своей Конторе, вполне хватит на недвижимость. Крит не гарантирую, но ведь островов в морях много. — Он легко, дружески хлопнул меня по руке. — Да бросьте, наконец, эту дрянь.
Я заметил, что он перешёл, по сравнению с прошлыми встречами, на «вы», и это как-то связано с моим статусом. Значит, статус изменился? То есть я был-был мусором, букашкой и вдруг, мановением неведомых мне сил и обстоятельств, обернулся в человека? Томительные намёки на Швейцарию и недвижимость (как это можно получить субсидию на лечение в Швейцарии, а потратить её на недвижимость на каких-то островах в морях, что тут общего, Швейцария даже не остров, и морей там нет, по крайней мере, не было, когда я изучал в школе географию, — и вряд ли они могли появиться за прошедшие годы, не такое это дело, появление моря, хотя ручаться не стану), томительные намёки заставили меня сосредоточиться, но должен уточнить, что само место не лучшим образом располагало к интеллектуальным усилиям, вовсе даже не располагало, хотя, возможно, это касалось одного меня. Люди вокруг жрали (о да, простите, стыдно так говорить про отдыхающих, мирных, ничего мне не сделавших людей, которые весь день, допустим, работали или учились, выкладывались, теряли силы, уставали — и при других обстоятельствах, в конце концов, пошли бы в другие, более изысканные рестораны), жрали так задорно, свирепо, что и я стал наконец хлебать свою жидкую пластмассу, попадая даже в тон общего остервенения.
— Чего вы от меня хотите?
— Рутины, рутины, — сказал он, и его невозможные глаза мерцнули. — Всего, чему вы обучены: контроль, ликвидация. Вы же не аналитик какой-нибудь, на земле работаете, верно?
Выражение «работать на земле» я где-то слышал, точнее говоря, видел, оно попадалось мне в библиотечных детективах, прилагаемое к оперативникам из районных отделов милиции, таким, например, какие приходили ко мне спрашивать про то убийство. Ах!
— Вот. — Он ловко сунул мне яркий журнал. — Там фотографии.
Я начал листать и нащупал вложенные между гладких страниц фотографии и купюры. Деньги показались преувеличенно шершавыми рядом с этой гладкостью, скользкостью.