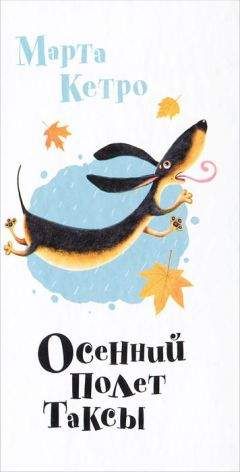— Но у «Ушаночки» та же целевая аудитория, что у гоп-стопщика.
— У растворимого кофе и сгущёнки тоже поначалу была целевая аудитория: солдаты на фронте. А теперь их жрут все подряд. — Он забеспокоился. — Не поймите так, будто я за доступность пониманию широких народных масс. Хуй с ним, с пониманием. Есть разница: не понимать, потому что не понимаешь, — и не понимать, потому что там понимать нечего. Или, по-вашему, районный пацан не втыкается в Звягинцева, поскольку в принципе не способен к пониманию таких вещей?
«По-моему, да, — подумал я, — именно в принципе не способен». А вслух сказал:
— Я его тоже не понимаю.
— Уж надеюсь, что не понимаете. Послушайте, Шизофреник, может, встретимся, накатим?
Это был шанс Социальной Адаптации; увы, призрачный.
— Я не пью, — униженно сказал я. — Понимаете, мне нельзя. Я принимаю лекарства.
— Да? — Он подумал и сказал без прежней уверенности: — Ну, мы могли бы кофе, что ли…
Было ясно, что встречаться за кофе он не привык и не очень знал, как такие встречи проходят. Мне же предстояло это узнать в совсем другой компании.
К. Р.
Я проинформировал Контору о событиях в подробном рапорте, отвёз пакет в заветное дупло и сел ждать. Смерть агента может остаться неотомщённой, но в любом случае будет учтена. Где-то в неведомой стране в недрах неприметного, но крепкого дома стоит шкаф, а в недрах шкафа лежит амбарная книга, а в книгу каллиграфическим почерком вписаны основные факты, вехи, даты — и склонная к рукоделью секретарь архива уже нарисовала тонким пером крест в конце строки.
Всё складывалось так, что кто-то хотел от меня избавиться. Поскольку я не мог вычислить эту персону дедуктивно, то шёл в обратном направлении: от марионеток к злокозненной руке кукловода. Удастся ли за руку схватить, я не знал, чьей рукой она окажется — не спешил гадать. Мир вокруг стал очень медленным миром; напряжение мрака воцарилось в нём — тишина, неподвижность, только подчёркивающие угрозу, и молниеносные опасности сидели в траве под кустами, не торопясь прыгать: вся ночь была впереди.
Я решил обойти свои владения и не без нервов — привыкай! привыкай! — покинул кабинет. Залитые беспощадным искусственным светом коридоры были пусты, ручейки невнятного говора текли из-под закрытых дверей классов (сдержанный, более чем уместный лепет, честный звук вовсю работающего урока; нигде не бросался, стараясь выломать, на дверь бунт крика, смеха, отчаяния), а в мутнеющие, плывущие окна, куда я мимоходом взглядывал, трагически, но курьёзно хлестал в середине декабря дождь.
Было удушающе тепло и почти пахло цветами — то ли от освежителя, то ли действительно из расставленных вдоль окон затейливой зелёно-разноцветной композицией горшков. Школа моего детства, неменяющееся царство вечного холода и едкой мастики, надёжно забаррикадировалась в памяти. Замешкавшись у окна (ничего не разглядишь, морок и мгла), я рассеянно обрывал розовые лепестки чего-то пышного, невинно-кудрявого, и в таком виде меня застукала Елена Юрьевна.
Елена Юрьевна в роли и. о. завуча смотрелась как Скарлетт Йоханссон, если бы ту, втиснув в амплуа Джоли или Моники Белуччи, отправили спасать мир красотой и гранатомётом. Кипа бумаг и очки, которые она перестала снимать, не подчёркивали, а гротескно искажали, — как случается с тем, чему надлежит быть резкими, характерными чертами, но что становится карикатурой, ибо его окружение, уравновешивающий фон, вытравлено. Много лет бок о бок с Анной Павловной, она прекрасно знала, как выглядеть завучем, и почти ничего о том, как им быть.
— Это что у вас?
— Это бумаги Анны Павловны, — и голос тихий, несчастный. — Нужно разобрать.
— Не разобрать, а использовать. Пойдёмте ко мне, посмотрим.
Теперь, когда мы в любой момент беспрепятственно и безопасно можем укрыться в моём кабинете, обоим — кажется — всё чаще приходит мысль «а зачем». Я склонен думать, что это временный шок, однако знаю — внутри нутра, глубже всяких мыслей, — что с родством душ покончено навсегда. Смятение и отчуждённость сменили былые упоения — и это казалось тем несправедливее и смешнее, что и упоений-то, в общепринятом смысле, у нас не было. Этой осени не предшествовали лето и, ещё прежде, весна, но ледяные неотвратимые очертания зимы виднелись на помрачневшем горизонте.
— Значит, всё останется без перемен?
— А зачем нам перемены?
Сварливый звук моего голоса изумил даже меня самого. Елена Юрьевна кладёт бумаги на стол, осторожно и растерянно на них опирается. Не знаю, есть ли такое чувство, как благоговейная ненависть, но нечто подобное — не умею определить иначе — сквозит в её жесте, взгляде.
— Зачем перемены? — повторяет она. — Но нас не поймут, если их не будет. Скажут, что прежнее недовольство было наигранным, и если теперь, когда появилась возможность сделать по-своему, всё оставлено как было, это означает, что либо я осуждала тот стиль из зависти, либо просто ничего не умею.
Она ещё не понимает, что «тот стиль» нам предстоит оплакивать и бесплодно пытаться возродить, вплоть до того, что в нашем воображении он, переиначенный, как всё обожествлённое, сольётся с образом золотого века, в котором не опознали бы себя боги и герои того времени.
— Мы не будем ничего менять, и всё как-нибудь изменится само собой. — Я стараюсь улыбнуться. — Звучит глупо, но именно так всегда происходит. А что скажут… Не поздно ли этим интересоваться?
— Я перестаю вас понимать, Константин Константинович, — говорит Елена Юрьевна уныло. — Конечно, вам виднее. Но это так обескураживает…
— Чепуха. Жизнь на то и дана, чтобы обескураживать. Те, кого она больше не обескураживает, лежат в сосновых гробах.
— Почему в сосновых?
— Потому что в дубовые попадают совсем другие люди и по другим причинам.
— Вы так тщательно классифицируете… Как будто причина важнее самого факта попадания.
Сделав мужественную попытку шутить, смеяться, Елена Юрьевна теряет последние силы. Я жду, пока она соберётся с духом, чтобы вернуться к бумагам, и смотрю на их увесистый плотный ком, сгусток зла и воли.
И Гриега
Экспедиция не сгинула бесследно. То есть она сгинула в значении «не вернулась», но. Её следы припёр в прицепе трактор. Одеяла, консервы, хлеб, мыло, сигареты, скромных размеров аптечка и секретный пакет подполковнику. Все секреты, по-видимому. Заключались в призыве держаться. Потому что подполковник помрачнел пуще прежнего. А чего он ждал? Лаврентию Палычу прекрасно было известно. Что если в бумагах произошёл сбой, так хоть ты себе лёгкие продуди, толку не будет. И надо тупо ждать, когда. Лет через пять всё само собой станет на место. Только через пять лет все уже к этому сбою приноровятся. И возвращение из сбоя в режим воспримется как новый сбой.
— Гарик, не мечтай.
— Я не мечтаю, я силы коплю.
— Гляди, чтоб через край не полилось.
И Киряга суёт мне ведро. Подполковник Лаврененко стоит рядом и скромно наблюдает.
— Кирягин, — говорит он наконец, — как так получается, что ты их не бьёшь, а они тебя слушают?
— Бить, мон женераль, мне моя философия не позволяет. А слушают — потому что правду говорю.
— А Григорий Николаевич — растолковывают, — фыркает Доктор Гэ.
А и правда, думаю я, почему Киряга всегда выходит прав?
Под его руководством даже кролики перестали дохнуть, не говоря уже о ком мерсе или Докторе Гэ. И Лаврененко всё чаще выбирался из чащобы, присаживался как медведь на лавочку. («Ну и что, что коллаборационизм, — сказал Доктор Гэ, которому явно было неприятно, но он себя убедил. — Зато вон как мерин отожрался».)
И со мной Кирягины зудения исподволь сделали своё дело. Нет, не так. Не сами зудения, а его честная убеждённость в том. Что он зудит по делу. Я сам иногда стал думать о поганце моём старшем брате не теми словами, что обычно. Копал в памяти глубже обычного. Битьё, например. Актуальная тема. Поглядев на нынешние условия, то давнее битьё и битьём не назовёшь: пендель, подзатыльник. Всё, наверное, было строго мотивировано. Двойками, не знаю, фокусами. «Наверно, номер отколол мальчишка-сорванец: весь вечер, хмур и очень зол, пилил его отец». Это мы учили в пятом классе как пример идиомы, что ли; целая книжка была таких стишков про разные тонкости русского языка. В пятом классе я ещё старался и стихи учил намертво. «Бородино» и басню Крылова «Волк и ягнёнок» проору хоть сейчас, разбуди меня. Среди ночи. Не забываются стихи, которые. Выучил в детстве.
Но я всегда был виноват. Я не говорю, что перед очередной женой — тут понятно. Чью сторону возьмёт мужик. Но и в школе. И во дворе, и в институте. И в любых разборках. Игорь психопат! Игорь наркоман! Игорь вор клеймёный! Один братишка не переставал хотеть мне добра. Хотя то, что есть сейчас, несомненно развилось из задатков, которые были тогда. Пакостный такой, испорченный мальчишка, мечта любой колонии. Как я ночами плакал. Как хотел умереть, просился на тот свет к мамочке.