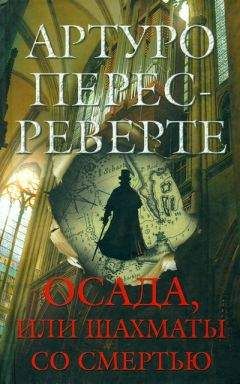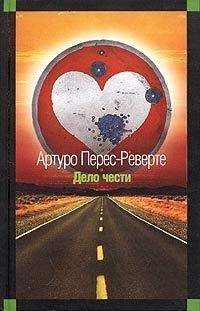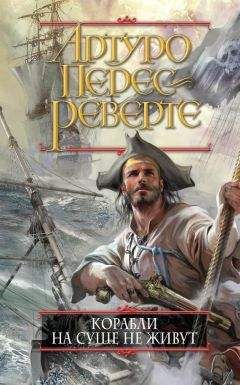У Пепе Лобо состоялся с Лолитой приватный разговор — второй за все время их знакомства — после того, как она уклонилась от посещения твиндека. Сказала, что лучше побудет здесь, день такой славный, а внутри ей будет душно. Так что прошу извинить меня, сеньоры. Рикардо Маранья спустился вместе с доном Эмилио и Мигелем вниз, намереваясь угостить их в каюте рюмочкой портвейна, Лолита же осталась на корме. Раскрыв зонтик ибо солнце пекло нещадно, она глядела, как высится невдалеке, подрагивая на преломляющемся в воде свету, внушительная громада бастионов Пуэрта-де-Тьерра, как по глади залива во всех направлениях снуют большие и малые корабли. Тогда-то Пепе Лобо и владелица компании Пальма проговорили около четверти часа, а по завершении беседы, где не было затронуто сколько-нибудь серьезных или претендующих на философскую глубину предметов, но обсуждались исключительно корабли, война, город и морское судоходство, капитан убедился: Лолита Пальма — эта еще молодая, блестяще образованная женщина, которая с удивительной для него легкостью оперирует английскими и французскими морскими терминами, — не похожа ни на кого из тех, кого он знал раньше. Что в ней есть нечто совершенно особенное, а именно — спокойная внутренняя решительность, включающая в себя выношенное годами умение отказываться, уверенность и богоданная способность безошибочно судить о людях по словам их и делам. Ее опять же совершенно особому очарованию — определить его природу трудно, но слово «безмятежность» не раз и не два приходит на ум Пепе Лобо — немало способствуют матово-белая кожа, едва заметные голубоватые жилки на запястьях, иногда мелькающие между кружевной оторочкой рукава и краем атласных перчаток, красиво вырезанные губы, приоткрывавшиеся всякий раз, когда она внимала даже такому собеседнику, как капитан «Кулебры», который не пользовался ее живой симпатией, о чем он мог судить хотя бы по ее безупречно учтивому и слегка надменному тону, какого держалась Лолита Пальма все это время. Еще можно сказать, что благодаря своему любопытству — одновременно и простодушно-искреннему и точно рассчитанному — она, живя в мире, населенном людьми, предсказуемыми до последней крайности, не утеряла способности удивляться чему-то неожиданному.
— …Все в порядке, капитан, — прерывает его размышления доклад Рикардо Мараньи. — Курс подтвержден, груз оприходован. Происшествий нет. Я приказал задраить и опечатать люки.
На людях они никогда не обращаются друг к другу на «ты». Абордажная команда вернулась на «Кулебру» и, свалив оружие в плетеные корзины у основания мачты, шумно и весело расходится по палубе, рассказывает о перипетиях захвата. Под посвист талей шестеро матросов поднимают на борт шлюпку, с которой потоками бежит вода. Пепе Лобо швыряет в море недокуренную сигару и сходит с мостика.
— Ну что, удачно?
Маранья кашляет, подносит ко рту платок, выхваченный из рукава, а потом, безразлично оглядев красные влажные пятнышки, прячет его обратно.
— Бывало и хуже.
Капитан и старший помощник улыбаются друг другу с многозначительностью давних сообщников. Следом за баталером, который несет патент, коносамент и судовую роль, поднимается на борт и шкипер захваченной тартаны — грузный, краснолицый и немолодой морячина с седыми бакенбардами; у него вид человека, у которого сию минуту разверзлась земля под ногами. Он испанец, как и большая часть его матросов; француза среди них нет ни одного. Маранья разрешает ему сложить документы в доставленный абордажной командой из его каюты сундучок — сейчас, поставленный посреди чужой палубы, он еще больше усиливает смятение своего хозяина.
— Сожалею, что пришлось задержать ваше судно, — говорит Пепе Лобо, прикоснувшись к шляпе. — Оно со всем грузом и бумагами будет препровождено в Кадис в качестве нашей законной добычи, то бишь приза.
Говоря все это, он достает из кармана портсигар и раскрывает его перед шкипером, однако тот порывистым взмахом руки обозначает отказ.
— Это произвол и бесчинство! — негодующе бормочет он. — Не имеете права!
Капитан «Кулебры» убирает портсигар в карман:
— Как вас уведомил мой помощник, мы действуем по правилам на основании действующего корсарского патента. Вы с нижепоименованным грузом направлялись в порт государства, находящегося с нашим в состоянии войны, то есть перевозили контрабанду. Кроме того, не остановились, хотя мы подали вам сигнал поднятым флагом и орудийным выстрелом. Оказали сопротивление.
— Что за чушь? Я испанец, как и вы. Зарабатываю себе на жизнь.
— Мы все зарабатываем.
— Захват незаконен! Тем паче, что вы подошли ко мне под французским флагом.
Пепе Лобо пожимает плечами.
— Прежде чем открыть огонь, я поднял испанский, так что все по закону. В любом случае, когда придем в порт, вы сможете опротестовать захват. Мой писарь в вашем распоряжении. — И пока шкипера уводят вниз, Лобо, обернувшись к помощнику, который молча слушал этот диалог, говорит: — Травить шкоты! Курс — запад-юго-запад, чтобы поскорей и подальше уйти от Асейтеры. Командуй.
— Значит, в Кадис?
— В Кадис.
Маранья кивает с невозмутимым видом. Лицо при этом такое, словно он думает о чем-то совсем ином. Помощник — единственный, кто не ликует при мысли о скором возвращении домой. Но Пепе Лобо знает его сдержанность — это всего лишь часть роли, которую тот себе выбрал. В душе Маранья очень рад, что скоро сможет возобновить по ночам свои опасные рейсы в Пуэрто-де-Санта-Мария. Дай бог, чтоб его не схватили на полдороге свои или чужие. Хотя Маркизик, верный себе до умопомраченья, живым едва ли дастся… Кинется с саблей очертя голову… С него станется. А на «Кулебре» откроется вакансия старшего помощника.
— Идем с тартаной под эскортом взаимной защиты. Смущает меня эта фелюга из Роты.
Маранья снова кивает. Ему тоже внушает опасения французский корсар, который с начала года набрасывается на любое судно, испанское или иностранное, рискнувшее подойти слишком близко к отрезку берега между мысом Камарон и мысом Кандор. Британский военный флот, как и испанский, занят делами поважнее и потому пока не успел положить конец его проказам. От безнаказанности француз наглеет еще больше: четыре недели назад, в ночь полнолуния, он решился под самым носом у пушкарей крепости Сан-Себастьян перехватить турецкую бригантину с грузом пшеницы, ячменя и орехов. Пепе Лобо на собственном опыте убедился, сколь опасна эта фелюга, которой, если верить слухам — в бухте судачат, как кумушки на рынке, — командует отставной лейтенант императорского флота, набравший себе экипаж из французов пополам с испанцами. Этот ведь тот самый отчаюга, который, лавируя, управлялся с «латинскими» парусами своей сильно вооруженной фелюги — шесть 6-фунтовых пушек и две карронады по 12-ти — так лихо, что едва-едва не угробил Пепе Лобо, а прошел бы еще полминутки прежним курсом — и себя самого. Дело было в конце февраля, когда капитан в последний раз перед тем, как уволиться, вел шебеку «Рисуэнья» из Лиссабона в Кадис. Может, и поэтому воспоминание неприятно вдвойне. Но сейчас, с восемью пушками на борту, дело обстоит иначе. Однако дело не только в этом. Времени прошло уже немало, но Пепе Лобо не забыл мерзостные ощущения, которые испытывал за миг до того, как чудом успел проскочить в гавань. В списке его личных долгов французская фелюга и ее капитан значатся на почетном месте и жирно подчеркнуты. Море велико, но все равно — где-нибудь рано или поздно да пересекутся их пути. И пути их кораблей. И когда настанет час этой встречи, Пепе Лобо не откажет себе в удовольствии расквитаться.
Комиссар Рохелио Тисон, как всегда, после своего обхода кофеен решил почистить сапоги. День тих и почти безветрен, и утреннее солнце пробивается сквозь навесы и старые паруса, протянутые от балкона к балкону и затеняющие улицу Карне. Уже наступил зной, и можно пройти через весь город, так и не почувствовав ни единого дуновения свежего воздуха. Всякий раз, как на глянцево блестящий носок сапога скатывается с кончика носа капля пота, чистильщик проворно смахивает ее и продолжает свое занятие, время от времени звонко, с чисто карибской щегольски-показной виртуозностью похлопывая рукоятью щетки по ладони. Клак, клак, клак. Как всегда, чистильщик старается угодить Тисону, хоть и знает — тот не заплатит за работу. Он никогда не платит.
— Другую ножку пожалуйте, сеньор комиссар.
Тисон послушно подбирает ногу в надраенном сапоге и ставит другую на деревянный ящик, перед которым на коленях стоит на голой земле чистильщик. Комиссар же, привалясь спиной к стене, надвинув на нос весьма не новую летнюю белую шляпу с черной лентой, держа в одной руке трость с бронзовым набалдашником, а большой палец другой сунув в левый жилетный кармашек, наблюдает за прохожими. Хотя по всей линии канала, отделяющего Исла-де-Леон от материка, продолжаются бои, на Кадис вот уже три недели как не падает ни одна бомба. И это заметно по тому, как расслаблены и беспечны горожане: идут хозяйки с корзинами для покупок, служанки моют подъезды, лавочники с порога своих магазинчиков завидущими глазами провожают чужестранцев, которые фланируют по улице или толпятся у лотка с офортами и гравюрами: тут листы с изображениями героев и батальные сцены, карикатуры на французов, и в изобилии — портреты короля Фердинанда, пешего и конного, поясные и в полный рост, и прочий патриотический угар. Тисон провожает взглядом молоденькую в мантилье и в юбке с бахромой, что так и ходит туда-сюда от движений ее бедер, покуда с грацией истинной махи девушка отстукивает каблучками. Стакан холодного лимонада, принесенный комиссару из ближайшей таверны, он непочтительно ставит меж горящих и погашенных свечей в нишу, где, поникшее под терновым венцом и уличной жарой, кровоточит чело Иисуса Назарея.