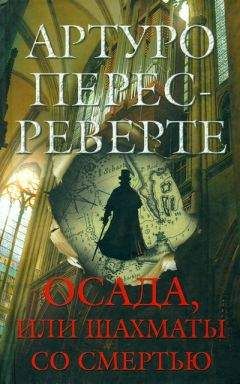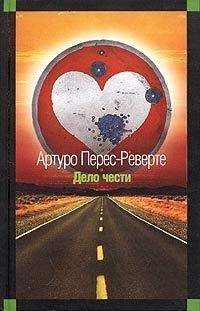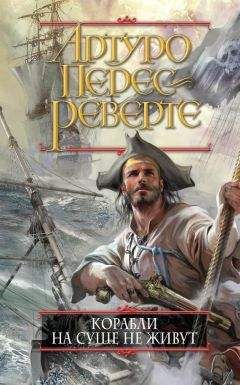— Другую ножку пожалуйте, сеньор комиссар.
Тисон послушно подбирает ногу в надраенном сапоге и ставит другую на деревянный ящик, перед которым на коленях стоит на голой земле чистильщик. Комиссар же, привалясь спиной к стене, надвинув на нос весьма не новую летнюю белую шляпу с черной лентой, держа в одной руке трость с бронзовым набалдашником, а большой палец другой сунув в левый жилетный кармашек, наблюдает за прохожими. Хотя по всей линии канала, отделяющего Исла-де-Леон от материка, продолжаются бои, на Кадис вот уже три недели как не падает ни одна бомба. И это заметно по тому, как расслаблены и беспечны горожане: идут хозяйки с корзинами для покупок, служанки моют подъезды, лавочники с порога своих магазинчиков завидущими глазами провожают чужестранцев, которые фланируют по улице или толпятся у лотка с офортами и гравюрами: тут листы с изображениями героев и батальные сцены, карикатуры на французов, и в изобилии — портреты короля Фердинанда, пешего и конного, поясные и в полный рост, и прочий патриотический угар. Тисон провожает взглядом молоденькую в мантилье и в юбке с бахромой, что так и ходит туда-сюда от движений ее бедер, покуда с грацией истинной махи девушка отстукивает каблучками. Стакан холодного лимонада, принесенный комиссару из ближайшей таверны, он непочтительно ставит меж горящих и погашенных свечей в нишу, где, поникшее под терновым венцом и уличной жарой, кровоточит чело Иисуса Назарея.
— Значит, ничего нового, дружок? — говорит Тисон.
— Клянусь, сеньор комиссар. — Негр, скрестив большой и указательный пальцы, целует их. — Ничего, совсем ничего.
Тисон отхлебывает лимонаду. Без сахара. Чистильщик — один из его тайных агентов, ничтожная, но полезная ячейка в обширной сети полицейских осведомителей: сутенеров, сводниц, проституток, нищих, трактирных лакеев, слуг, портовых грузчиков, моряков, кучеров шарабанов, всякой мелкой уголовной шушеры, промышляющей карманными кражами на улицах или по кофейням, что норовит увести у зазевавшегося путешественника чемодан из почтовой кареты или дилижанса, срезать часы и кошельки. Вся эта братия просто создана, чтобы подслушивать разговоры, узнавать чужие секреты, указывать имена и описывать наружность тех, кого полиция потом рассортирует и разложит по картонным папкам, использовав в нужный момент в интересах общественной безопасности или своих собственных, ибо одно с другим совпадает хоть и не всегда, но все же довольно часто. Кое-кому из своих стукачей Тисон платит. А другим — нет. Большинство сотрудничает с ним на тех же основаниях, что и чернокожий чистильщик обуви. В этом городе, в нынешнее-то время, когда не словчишь и не слевачишь — не проживешь, благоволение полиции представляется надежнейшей формой защиты. Играет свою роль и страх, ибо Рохелио Тисон — из тех блюстителей порядка и слуг закона, которые на основании долголетнего опыта считают нужным и полезным, однажды взяв кого-нибудь под наблюдение и за кадык, пальцев уже не разжимать и глаз не спускать. Он знает, что на этой службе лаской и любезностями немногого добьешься. Так уж повелось с тех незапамятных времен, когда появилась полиция. И Тисон сам в меру — и сил, и здравого смысла — старается подкрепить зловещую славу, что идет о нем по Кадису, где столько народу проклинает его — правда, всегда за глаза. Как и должно быть. Какой-то римский император говорил: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись» — и был прав. Прав на все сто и даже немного больше. Есть на свете такое, чего можно добиться только страхом.
Каждое утро с половины девятого до десяти комиссар обходит кофейни, чтобы поглядеть на новые лица и убедиться, что знакомые — по-прежнему там: в «Коррео», в «Аполлоне», в «Ангеле», в «Цепях», в «Золотом Льве», в кондитерской Бурнеля или Кози. Таковы основные вехи этого пути, а кроме них есть еще много промежуточных пунктов. Он мог бы поручить обход кому-либо из своих подчиненных, но не все ведь доверишь чужим глазам и ушам. Тисон, полицейский не только по ремеслу, но и по призванию, освежает этими ежедневными проверками образ города, отданного ему в попечение, считает его пульс там, где он бьется сильнее всего. Это минуты откровений, сделанных на бегу, мимолетных разговоров, многозначительных взглядов, примет и признаков, которые вроде бы не представляют собой ничего значительного, но, сопоставленные с плодами размышлений над списком постояльцев, зарегистрированных в гостиницах, пансионах и на постоялых дворах, определяют направление деятельности. Сыск, не прекращающийся ни на один день.
— Готово, сеньор комиссар. — Чистильщик утирает тылом ладони пот. — Как зеркало!
— Сколько с меня?
Вопрос ритуальный, как и ответ:
— Обижаете, сеньор комиссар…
Тисон похлопывает его кончиком трости по плечу, допивает лимонад и идет вниз по улице, привычно цепляясь глазом за прохожих, в которых по одежде и прочим чертам облика признает чужаков. На Палильеро видит нескольких депутатов, направляющихся в Сан-Фелипе-Нери. Почти все они молоды, во фраках, открывающих жилеты, в легких широкополых шляпах из тростника или манильской абаки, в ярких галстуках, в узких, больше напоминающих кавалерийские рейтузы, панталонах, заправленных в сапоги с отворотами, — все в соответствии с модой, принятой среди тех, кто называет себя «либералами» и противостоит депутатам, которые ратуют за неограниченную монархию и одеваются более чопорно в сюртуки и круглые шляпы. В последнее время кадисские острословы стали называть консерваторов «стервилистами», что наглядно показывает, чью сторону принимает народ в споре, с каждым днем все более и более ожесточенном, о том, кому — монарху или народу — должна принадлежать верховная власть. Комиссара этот спор оставляет глубоко равнодушным. Кто бы ни правил в Испании, кто бы ни вышел в тузы и ни сделался важной шишкой: либералы, роялисты, короли, регенты, члены национальной хунты или комитета общественного спасения, — всем и каждому, чтобы ему повиновались, нужна будет полиция. Кто, кроме нее, когда стихнет буря оваций или негодования, сумеет ввести все это в берега и вернуть народ к действительности?
Поравнявшись с депутатами, Тисон из подсознательного почтения ко всякой власти приветствует их, снимая шляпу. А придут к власти другие — никогда ведь не угадаешь наперед, как пойдут дела, — этих он, если прикажут, посадит в тюрьму. И встречается взглядом с водянисто-светлыми, как устрицы, глазами совсем молоденького графа де Торено, рядом с которым идут долговязый Агустин Аргельес и американцы Мехиа Лекерика и Фернандес Кучильеро. Тисон, взглянув на часы, убеждается, что уже больше десяти. Хотя заседания кортесов должны начинаться ровно в девять, редко удается собрать кворум раньше половины одиннадцатого. Депутаты — и тут нет разницы между либералами и консерваторами — спозаранку подниматься не любят.
…Свернув направо, на улицу Вероники, комиссар заходит в винный погребок некоего сантандерца. Хозяин за прилавком переливает вино из большой бутыли в емкости поменьше, его жена моет стаканы. С крюков свисают окорока и колбасы, стоит бочонок с солеными сардинами.
— Дружок, тут неприятность одна вышла…
Хозяин грызет зубочистку и смотрит, что называется, ноябрем. Бросается в глаза, что он знает Тисона достаточно, дабы с полной отчетливостью сознавать: откуда бы эта неприятность ни вышла, пришла она в образе этого полицейского — к нему.
— Какая же, комиссар?
Он выходит из-за стойки, и Тисон отводит его в глубь погребка, где навалены мешки с турецким горохом и стоят штабелем коробки с сушеной треской. Жена глядит на них недоверчиво — ушки на макушке и лицо такое, будто уксуса напилась. Она тоже знает, кто такой комиссар и чего от него можно ждать.
— Вчера у тебя в неурочное время были посетители. Мало того — играли в карты.
Это недоразумение, выплюнув зубочистку, возражает хозяин. Чужестранцы забрели по ошибке, ну и он не стал отказываться, если деньги сами плывут в руки. Вот и все. А насчет карт — так это вообще клевета. Поклеп. Напраслина, возведенная кем-то из сволочей-соседей.
— Неприятность же заключается в том, — невозмутимо продолжает Тисон, — что я обязан тебя оштрафовать. Взыскать восемьдесят восемь реалов.
— Это несправедливо, сеньор комиссар!..
Тисон смотрит на него долгим взглядом — до тех пор, пока сантандерец не опускает глаза. Этот рослый и крепкий, длинноусый горец из Барсены живет в Кадисе всю жизнь. На рожон, насколько известно, не лезет, нерушимо следует заповеди «живи и давай жить другим». Единственная слабость его, как и любого другого, — сшибить несколько лишних монет. Комиссар знает: по вечерам двери в этом погребке запираются и начинается игра, что есть нарушение постановления муниципалитета.
— А за это, — отвечает он холодно, — за «несправедливость» то есть, придется тебе выложить еще двадцать реалов.