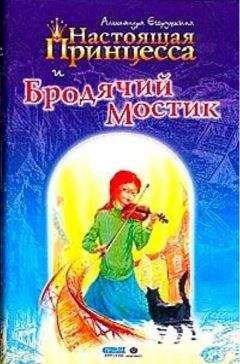Но народ в итоге не очень составился. То есть местные по наивности себе чего надо отрезали, и потом заболели, потому что нельзя ведь не заболеть, и слегли, а Симеон с Левием, «братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол… и разграбили город». К такой-то, разумеется, матери.
Кадры черно-белой кинохроники: маршал Жуков показывает с трибуны мавзолея большой палец. Радостно улыбается и машет рукой.
Так что какая уж тут еврейская покорность судьбе? Опять одно сплошное несоответствие. Радует лишь участь того, кто должен был появиться через девять месяцев после всей этой суеты. Если под кустом у них все получилось. По матери он имел право считаться чистокровным евреем. Никаких проблем с самоидентификацией.
При этом забавно – на чем поймали. На обрезании. Прямо как хороший редактор. Ножницами – чик! И готово. «Ваша статья может пойти в печать только в таком виде». Или диссертация. Им все равно что обрезать. Лишь бы торчало.
«Вы знаете, – сказали мне тогда в ученом совете, – вашу диссертацию о Фицджеральде придется немного отложить».
То есть не просто отложить, а – «немного». Вопрос – это как?
«У вас вторая глава провисает в свете решений последнего пленума. Надо либо ее сократить, либо переписать заново. Но поскольку страдает объем, то лучше переписать».
И я согласился, что объем страдать ни в коем случае не должен. Страдание – категория не объемная. Существует в чем угодно, но только не в пространственных измерениях. Во времени, в воздухе, во взгляде, во сне, больше всего во сне – только не в количестве страниц и не в сантиметрах.
Если эти сантиметры, конечно, не складываются в чей-то конкретный рост. И если этот конкретный кто-то не обладает над тобой бесконечной властью. «Конкретный», разумеется, не в мужском роде. Окончание «-ая», как в деепричастиях «погибая» и «засыпая». Является каждую ночь во сне – холодная, бессердечная, чужая. Уходит всегда с другим. И в пробуждении нет никакого смысла.
В общем, я понял, что вторую главу придется переписать. Новизна положения, правда, заключалась в том, что переписывать ее мне уже было негде. Даже в квартиру Соломона Аркадьевича после женитьбы на Любе я перебрался в общих чертах из ниоткуда. Служебное жилье отца после его смерти быстренько отобрали, а я слонялся по домам родственников, пока они мне открыто не дали понять, что у меня еще остается мама. Но у мамы давно уже была другая семья, а с бабушкой я жить не мог. После отцовского инфаркта и его быстрой смерти она без конца повторяла, чтобы я следил за своим сердцем, и я, в конце концов, от этого очень устал. Потому что – как за ним уследить? Выходишь однажды из института на улицу, а там Люба.
Поэтому больница доктора Головачева после квартиры Соломона Аркадьевича была для меня конечной станцией. «Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны». И когда я напросился на ночные дежурства, шансов на возвращение к Любе у меня уже практически не оставалось. Вторую главу можно было смело начинать переписывать в закусочных и на автобусных остановках.
С этими ночными дежурствами, кстати, выбор у меня тоже был небольшой. Точнее сказать, его вообще не было. То есть либо ночевать на улице, либо в больнице. Где все-таки стоит в ординаторской какой-то диван. И можно поспать хоть немного, пока не придет Гоша-Жорик и не начнет говорить, что он в этом не виноват. И требовать, чтобы я его отпустил на танцы. «Только туда и обратно. Я быстро, студент. Никто не заметит. Выдай мне одежонку».
Конечно, он был не виноват. Я очутился бы на этом диване и без него. Но он, тем не менее, приходил и продолжал настаивать на своей непричастности. Я даже начал подумывать – не запереть ли его палату на ключ, но потом от этой приятной мысли пришлось отказаться. Головачев утром бы удивился тому, что Гошу лишили привычной для него свободы. Плюс наверняка бы задумался – какие такие вдруг отношения между нами возникли, что мне даже пришлось его запирать. В больнице доктора Головачева любые отношения между персоналом и пациентами были запрещены.
Но между Гошей-Жориком и мной они существовали.
* * *
Это началось в тот момент, когда мне стало понятно, что анализом и наблюдениями в больнице занимаюсь не только я. Подглядывая за подопечными Головачева, я иногда чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Разумеется, он мог принадлежать кому-нибудь из персонала, поскольку мое поведение с самого начала привлекало их живое внимание и, возможно, даже служило темой их профессиональных бесед. Но что-то в самой природе того щекотливого зуда, который время от времени возникал у меня между лопаток или на затылке, говорило мне, что вызвавший его взгляд слишком интенсивен для того, чтобы принадлежать врачу. Тем более санитару.
И я вертел головой. Затихал, а потом резко разворачивался всем корпусом. Вращался вокруг оси, как планета Земля. Не помогало. Я никак не мог избавиться от ощущения чужого взгляда, но его реактивный владелец в поле моего зрения так ни разу и не попал. Когда я стал подозревать себя в паранойе и был уже готов рассказать об этом врачу, он наконец объявился сам.
«Это не так делается, – сказал Гоша-Жорик, входя в кабинет к Головачеву и отнимая у меня ножницы из рук. – Болоневый плащ этими не порежешь. Они же для маникюра. Тебе надо большие. Или вообще бритву принеси».
«Я не могу большие, – сказал я. – Заметят и отберут. В халат только такие входят».
«Под мышкой, кекс. Под теплой мякенькой мышкой», – сказал он и подмигнул мне блестящим глазом.
Так у меня появился союзник.
На следующий день я принес бритву, и Гоша-Жорик показал мне в туалете, как надо резать плащи. Он разрезал мой халат на длинные тонкие полосы от самого воротника, а потом еще связал их между собой.
«Нравится? – сказал он. – Новая мода».
«А в чем я теперь буду ходить?»
«Скажи сестре-хозяйке, что соседи на кухне сперли. Пока сушился. Она тебе новый даст».
«Я не в коммуналке живу».
«В отдельной, что ли?»
«Ну да».
«Значит, буржуй. А я думал – ты кекс. Ладно, зови в гости».
После того как плащ Головачева был благополучно разрезан и все мои фрейдистские мучения оказались наконец позади, бритву Гоша-Жорик оставил себе. Непонятно, где он сумел ее спрятать, но санитары ее не нашли. Хотя обыск по всей больнице был устроен отменный.
«Хорошо пошмонали, – говорил мне Гоша после того, как переполох улегся. – А ты знаешь, между прочим, что значит слово «шмон»?»
«Нет», – отвечал я.
«Надо же. А по виду вроде еврей».
«При чем здесь это?»
«Шмон» по-еврейски значит «8 часов».
«Ну и что? Мне все равно непонятно».
«В 8 часов раньше в тюрьмах был обыск. Обязательно каждый день».
«А там что, сидели одни евреи?»
«Выходит, что так. Я тебе потом про эти дела много чего расскажу. Поможешь свинтить отсюда? Только не сейчас. Мне еще здесь покантоваться надо».
А через несколько дней, стремясь, очевидно, завоевать мое окончательное расположение, он рассказал мне, что произошло в больнице с Любой. И я был потрясен, и раздавлен, и даже сначала просто не хотел верить ему. Но он настаивал и говорил, что «у баб так бывает», и если в первый раз, и так поздно, то они действительно иногда сходят с ума. Хоть ненадолго.
«Клинит у них, понимаешь? – говорил он, хватая меня за плечо. – А у тебя самого бы, думаешь, не заклинило? Ходишь, ходишь до тридцати с лишним лет, а потом вдруг – бац! – и вот это. А ты ведь еще моложе ее лет на пятнадцать».
«На десять», – потерянно говорил я.
«Без разницы. Для нее это как целая жизнь. И тут она от тебя еще это. А в дурдоме таблетки. Сам понимаешь. В общем, нельзя».
И когда я наконец поверил и отправился, как освободительная армия, прямо из больницы домой, полный всепрощения, нежности и поддержки, стоило мне только открыть дверь и заикнуться сначала тремя словами «я все понимаю», а потом еще словом «аборт», как вся моя жизнь на этом остановилась. Свернулась и прекратила существование.
Перепуганный Соломон Аркадьевич успел вытолкнуть меня за дверь и под страшные Любины крики попросил пока дома не появляться.
«Вы понимаете, молодой человек? Ее состояние не стабильно. Врачи делают все, чтобы она перестала думать об этих вещах. А вы тут приходите и чуть не в рупор кричите!»
«Но я же не знал».
«Это не важно. Вам есть где переночевать? Она не должна вас видеть».
Вот так я оказался на том диване, который стоял в ординаторской. Головачеву это было даже удобней. Во всяком случае, споры из-за графика ночных дежурств в коллективе больше не возникали.
Но Гоша-Жорик все равно чувствовал себя виноватым.
Еще бы. Где я теперь должен был переписывать эту несчастную вторую главу?
Чтобы хоть как-то утешить меня, Гоша рассказывал мне истории из своей жизни. Он говорил, что, когда мы с ним «свинтим отсюда», мы первым делом отправимся в Киев. Потому что он там работал на хлебокомбинате и у него там много друзей, которые просто завалят нас всем необходимым.