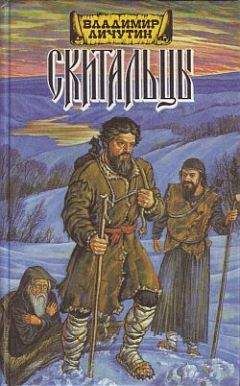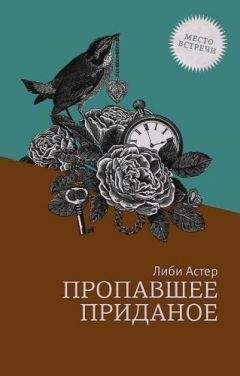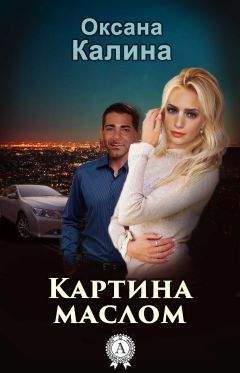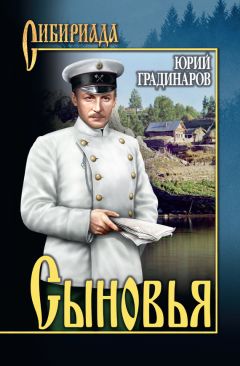Большие воды стояли, самая пора спустить шкуну в реку, дать ей большое плаванье. Люди глазели, примерялись, судили, как побежит посудина да будет ли устойчивой на волне, послушной руке и парусу: находились знатоки, цокали языком, вспоминали шкуны и шняки, на которых ходили на Матку, порой загорались и готовы были хоть сейчас столкнуть на воду и завесить парус. И только Егорко Немушко молчал, тянул свою вересковую трубочку, пуская дым в лица слишком разговорчивых мужиков, те плевались, особенно старой веры печищане, ругали Егорку: «Разве у табашника чего путного выйдет», – оскорбленно уходили в деревню, чтобы назавтра снова навестить и поцокать языком. Ведь не каждый день в Дорогой Горе рождались такие посудины на четыре тысячи пуд, да и эта еще отстоит на городках день-два и спустится рекой вниз, а там морем в Мезень, во владение Гриши Антипина, тамошнего купца. И когда ругались мужики зряшно, чтобы только разбавить скуку, Егорко по-своему переживал, не терпя посторонних взглядов, собирал клочковатые брови к самому утиному носу, показывая обидчику спину: мол, поди-ко ты, – медленно брякал деревянной ладонью по гулкой груди шкуны и касался ее волосатым ухом, словно что услышать мог. И Доньке было обидно за мастера, и он тоже быстро сердился, будто случайно толкал мужиков костистым плечом и бурчал: вот крутятся тут под ногами, дело вести мешают, а лучше бы шли по избам да путали бабам юбки. Неловкое суеверие немого мастера, налитое в тревожных серебристых глазах, передавалось и Доньке, и он тоже поджидал какого-то несчастья, когда они подрубят держаки и посудина скатится в Курью.
Вот почему спустили шкуну белой ночью, когда на востоке едва просыпалось державное солнце. Помолились златоглавому батюшке, отбив поясные поклоны; Немушко что-то гудел, кривил черный пустой рот и от солнечного света серебристые глаза его стали желтыми и ангельскими. Потом взяли в топоры бревна-держаки, корабль скрипнул днищем, словно не решаясь тронуться с городков, и, набирая ход, скатился в приливную воду. Задрожала река, смуглая от солнца волна косо пошла от берега к берегу и выплеснулась на кровавый камень-арешник. Что-то неуловимо прекрасное было в мягких обводах суденка, и у Доньки счастливо дрогнуло сердце. В челне вместе с Гришей Деулей подплыли к шкуне, где Егорко уже запускал паруса; быстро разобрали снасти, ветер тронул и надул белые полотна; туго забилась вода под смоляными бортовинами, и первая чайка, грустно икнув горлом, почти свалилась на мачту, потом испуганно зависла над нею, кося на мужиков черным немигающим глазом.
На полной воде шкуна скатилась в Кулой, и деревня бежала следом за суденком, еще черная в белой ночи, будто наглухо застегнутая и похожая на вдовицу-староверку. Донька стоял у бушприта, держась рукою за снасть, и ему вдруг мучительно захотелось плыть долго-долго; и он впервые почувствовал, как хорошо, наверное, идти сначала рекой, а потом морем, и волны будут завиваться под днищем, высоко вздымать шкуну, стараясь оторвать ее от гребней, а потом суденко начнет стремительно падать, и сердце пугливо и жутко-радостно замрет, как во сне. И Донька позавидовал отцу, что он может уплыть к дальним островам, и удивился его нерадостному, печальному лицу, с каким он обычно возвращался с моря и долго приходил в себя, отогреваясь баней и русской печью. Сидел на завалинке, как старик, шевелил тусклыми губами, и глаза его были мутные и сонные, как у хворого. Но почему у него, у Доньки, нет особой радости на душе, а только довольная усталость при виде своего первого топорного творенья, а еще вчера казалось: Бог ты мой, что будет, что будет, когда шкуна скатится с городков в реку и плавно качнется на высокой воде. Донька, наверное, встанет на голову, нет, пожалуй, он будет долго бродить по деревне с горки на горку, а мужики и бабы начнут тыкать в него пальцем и говорить, словно глухому: «Гли-ко, гли-ко, сколь паренек у Калины Богошкова боевой...»
Шкуну поставили чуть выше деревни, на глубоких яминах, где и в самые сухие годы хранились черные омуты. Егорка в хлюсты – корабельные ноздри – кинул якорь, тут же спустили на мачтах белые одежды, шкуну развернуло вдоль реки, и она стала похожа на большую морскую чайку, пронзенную двумя острогами. Посредине нее, на палубе, Гришка Деуля развернул холстинку, достали общий харч и стеклянный полуштоф водки; Егорко налил в точеную расписную чарку, обнес по кругу: каждый пил по трети, молясь на восток и благословляя солнце, ибо что может быть лучше на свете радостного солнца в радостный день. И под это молчание, под тягучее гиканье Немушки Донька тоже приложился к чарке, опрокинул водку в себя впервые в жизни и задохнулся слепо, потом пьяно ослаб, привалившись спиною к борту. Ему хотелось смеяться и плакать, потом он пополз на коленях вдоль палубы, щупая холодные заклепки и шероховатые смолистые доски, и все ему казалось чудным. А когда вернулся к трапезе, чарка уже снова ждала его, и Донька опять выпил, уже свободнее, потом повалился на спину, раскинув руки и вглядываясь в черные маковки мачт. Ветер поднялся, в хлюстах позванивала якорная цепь, что-то гундосил Егорка и Гришка Деуля, распалившись, рассказывал ему руками, хлопая себя по ляжкам и плечам. Донька глядел на них, как сквозь туман; под днищем плескала вода, палуба мерно качалась и будто уходила плавно вниз. И, счастливо улыбаясь, Донька уснул и видел себя в большой холщовой рубахе до пят; будто он разгребает щепу, а она наплывает на него, смолистая и колкая, готовая утопить под собой. Парень отчаянно перекатился на живот, и его вытошнило.
Проснулись они ошалелые от водки и солнца, едва продрали опухшие глаза и поднялись над бортами: деревня была белой от жары, на горе толпился народ, что-то кричал и махал руками.
Нынче Петровщина, большой на деревне праздник, когда девки-хваленки идут на смотренье. И Тайке дозволено впервые похвалиться прилюдно большим нарядом, который до времени поджидал девку: не от бабки-матери, как в других семьях, дошел он, а отец справил любимой дочери. Распахнула темный сундук, крытый узорным железом, в прохладной глубине ее девическое приданое, которое уже не раз перебрала да примерила темными зимними вечерами при свете лучины, когда в призрачных сумерках особенно тяжелы шелка и бархаты и зачарованно льются нитки жемчугов в потные от волнения ладони.
Вилась Тайка перед зеркалом в летней избе, не знала, с какого бока приступить к нарядам, хотя уж как торопилась, и сердце почему-то спешило, колотилось, и не унять его: словно исполнения тайного желания ждала сегодня девка, и оттого так не терпелось ей выскочить за деревню в общий круг. Тут зашла Манька, всплеснула по-бабьи руками: «Осподи, ты еще в одной исподней рубахе? Танька Корешиха давно уж торопилась мимо окон, и Санька Тиуниха. Все подруги в кругу, а она-то, осподи...»
Некрасивой в замужестве стала Манька, желтые пятаки под глазами, губы злые посунулись вниз; правда, после гибели сына поуспокоилась, перестала о хахале думать, да и с отцом вроде бы поближе. Нынче не повышал Петра перед Манькой голоса, задабривал ее подарками, оттого и носила баба голову высоко, мамку из большух вытеснила, завладела родительской квашней, а мать сразу голос потеряла, стала еще больше грузнуть, одолела ее водянка. Августа теперь все в своей светелке, спустится вниз только на выть и не ест, пока не подадут, а как пойдет по гостям, только и плачет: «Ой, деточки родимые до чего довели. Не могу я боле, не-е. Скорей бы нито и помереть». Когда при Маньке так же заплакала, дочь только съежила злые губы, прикрикнула: «Ну и помирай, чего ждешь-то».
– Ну как я? – крутилась Тайка в новых выступках с подковками да медными гвоздочками: подошвы дробно постукивали, словно орехи кололи.
– Красива ты, Тайка, – грустно откликнулась сестра.
– Ври-ко, ври-ко, – зарделась Тайка, вглядываясь в таинственную глубину зеркала, откуда выглядывали на нее тревожные глаза, налитые зеленым светом, и маленькие пересохшие губы.
– Ну страшна тогда, страшна, как бабка Лампеишна, – притворно сказала Манька. Оправила сестре толстую косу, шелковую рубаху с кумачовыми наплечниками одернула. Был на Тайке бархатный малиновый штоф до самых выступок, хотела шугай атласный с оторочкой из беличьего меха накинуть, да Манька остановила, мол, куда ты экий груз натягиваешь, ведь сопрешь вся, жарина-то несусветная. Примерила тогда девка коротенку[44] из парчи с шитыми золотом цветами, и сама своей красоте подивилась тайно, вздохнула и по детскому пламени щек добавила румянами: совсем боярышней стала. Пойдет деревней за околицу, и старые старухи будут глаза на ней оставлять да переспрашивать: «Андели, да чья это косата-голубушка, сколь красовита она да наряжуща». А Тайке взгрустнулось, не хочется ей на себя смотреть: если бы Донюшку выглядеть, и неуж не придет желанный, не глянет на мою красу девичью. Вспомнилось, как недавно к Евстолье бегала, у порога прут от свежего веника положила тайно, долго сидела, какие-то пустяковые разговоры вела, томилась, ждала, когда Донька придет. А заслышала стук ворот на повети, всполошилась, и сердце не унять. Вот почто так случается с девками красными, подскажите, люди добрые: еще только ворота скрипнули, а душа жаворонком затрепетала. Парень вошел, уж на него более глянуть не могла; побоялась выдать любовь свою глазами, почти побежала за порог, чтобы Евстолья не опередила, а иначе вся присуха пропадет. На другой день баня была, у отца выпросилась: «Пусти меня, батюшко, в первый жар ненадолго, что-то поясницу выломило, дай попариться своей меньшей дочери. В баню заскочила, нагнала пару, прут от веника бросила на полок, сама на полу сидит да приговаривает: „Как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне раб Божий Донька Богошков“.