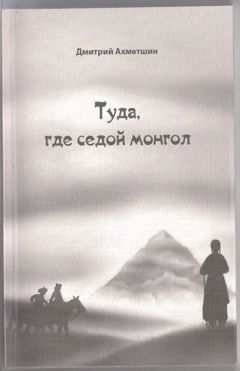Он явно подыскивал дипломатичные, слова, но какие тут могут быть... – Если ваше неравнодушие не осталось евангелическим... Я говорил... Доходит земное... горькое... задевает и ранит... Одна благость никого еще ни в чем не убедила... Оставьте женщину, какой была. Ведь она увлекательна, как человек увлекательна. Простым глазом видно.
– Даже без приключений?
– А что, нельзя без них?
– Книге, наверное, нет, – предположил я. – Читать не будут.
– Не пугайте... Знаю один современный роман. Этакий сериал. Что ни типаж, то сгусток стрессовых ситуаций. Переплетенья между ними сгущенные, стрессовые. Но вот беда, мной, обыкновенным читателем вдруг тоже овладела стрессовая усталость от всего этого пережима, когда для завлекательности железнодорожные стрелки, не знаю ради чего, отогревают лютой зимой не костерком хотя бы, а собственным телом. Чью-то служебную глупость пригрел-отогрел... Героика наизнанку... Ощущение где-то уже давно и лучше использованной крупноблочности... Меняй блоки, переставляй стрессы с места на место – ничего не изменится, не потеряется и не прибавится... Беспредельная выносливость подается как неизменная постоянная величина, за которой можно спрятать любое разгильдяйство.
– Но там профессиональный писатель. Ему видней.
– А мне что? Пускай себе важно стоит на полке, хоть золотом тисненный. Из блоков душу не сделаешь... Рельсу телом отогревать – это, пожалуйста, ходко, броско. Сочинить произведение под названием борщ для ближнего своего – не увлекательно, буднично и мелко... Но борщом пожалеть можно человека, обласкать, утешить. А рельсой как утешить?... Вот и подумай, где свет и тепло?... В людском общении? В привязанности нашей? В доброте? В человечности? В отклике на малейшее движение души? В понимании одним другого? С полувзгляда, с полуслова?
Спрашивал он как бы сам себя, не ожидая моего ответа.
– Немыслимые редкости в наши дни. Такие великие будничные редкости, – подвел он черту. – Как много мы даем новых определений современникам нашим... Он и динамичный, реактивный, целеустремленный, хваткий, предприимчивый... Но о ком сказали мы однажды – милосердный, человечный?... Стесняемся или некого? Или не умеем видеть и слышать?... Удивлялся гений один из прошлого... Если бы люди на свое здоровье, на продление жизни потратили столько же сил и тысячелетий, как на приобретение, на стяжательство, на барахло, на карьеру – мы давно уже были бессмертны... Здоровье как нечто само собой разумеемое, пока есть. Оно дается даром. А все остальное нужно доставать, брать, хватать, искать, отнимать, воевать... Уже увлекательно... Здоровье невидимо, как воздух, и буднично, как воздух. До роковой минуты. Когда бесполезно кричать от ужаса и боли...
Вслух размышлял Академик.
– Эти самые слова я повторил бы о человеческой привязанности, обыкновенном общении людей... Невидимо, как воздух. Яркости нет, буднично. И слов ярких нет... Какие там слова? Невнимательность, обида, равнодушие... Вроде как: температура, одышка, анализ крови... Легко и щедро умеем делать одинокими себя, других, не понимая, какую базарим роскошь... До роковой минуты, когда бесполезно кричать от боли... Может быть, поэтому вы оба так внимательны к малейшей мелочи, жесту, взгляду, намеку, что вдруг очутились перед возможностью огромной утраты? А вам и на машины человечинки хватило, и на муравьев, и на цыплят, и на траву!.. Но в т о й жизни, как Вы говорите, на кого и на что хватало?... Способны ли мы так видеть и понимать не в стрессах, в обыкновенных буднях? Видеть и слышать ее, видеть и слышать его?... Почему в годы разрухи мы были добрее один к другому? Более внимательны и на все отзывчивы? Разве так уж необходимо дубасить нас по голове, чтобы не гасло в душе человеческое.? Разве не надо нам беречь единственных и неповторимых своих, пока нет опасности их потерять, пока рядом они, с нами рядом, единственные, неповторимые.
Он ладонью своей накрыл тетрадь. Я слушал его, понимая, что хочет он убедить меня, будто видит все это между строчек.
– Шапка с головы упадет, если смотреть на титанов, какие нам говорили про людской эгоизм. И что гармония в мире наступит лишь тогда, когда не будет его, не станет равнодушия к другим... Хорошие слова, но слова... Изменили? Исправили? Помогли?... Вот разве само неравнодушие проявляется иначе. Озлоблением... Люди придумали, как человека сделать зверем... Уничтожить подобных себе. Их память, их мысли, их прошлое. Но оставить в невредимости их дома, их машины, их продовольствие. Такие богатые припасы для избранных, для уцелевших. На сотню лет безоблачного потребления... Все будет. И не будет жизни в таком изобилии. Человек зверем не выживет. Не станет его без человечности... Берегите, люди, все человеческое. От беды храните. Поймите, наконец, как оно дорого. Ему нет замены. И пока нет беды – храните. Бойтесь на земле остаться одиноки...
– Вы, по-моему, преподавали много, – заметил я, когда он замолчал на какое-то время, – у вас налажена речь.
Академик утвердительно кивнул:
– Заговорил насмерть?
– Увлекательно слушать.
– Убедил?
– Не знаю.
– Охрипнуть могу.
– Пожалейте себя.
– Пока не добьюсь, не пожалею...
– Хотите, чтобы все узнали, как очень хорошая, добрая, совсем не героическая милая женщина в загранке видит одни магазины? А я – рестораны?... Да еще ворчим недовольные.
Он улыбнулся в третий раз.
– Опять желаете выглядеть красиво... Пора уже всем без исключения понять. Время такое. Вышибло нас одинаково из маленьких наших орбит в одну общую, где все на всех. Любая мелочь... И каждого буквально все касается. Любой успех на каждого, любая неурядица на каждого... Есть у меня друг, коллега. Он однажды из Праги вернулся. Говорю ему: самое твое яркое впечатление?... Как вы думаете?
Я пожал плечами.
– Слесарные инструменты. Купил набор в удивительной упаковке. Все ладное, складное, по руке, да еще красивое. Мечтал о таком... Он кто, по-вашему? Бегунок по магазинам?... Если судить по газетам – не человек, а показатель. Хоть памятник ему ставь. – А вытянуть из него ничего невозможно. Будничный, неяркий, неброский, не говорливый. Предельно земной, домашний, сказал бы я. Если уж познавать его – то надо очень долго соединять, улавливать по крупицам, сопоставлять какое-то оброненное им слово, жест, поступок, взгляд, отношение к чему-либо. Самый обыкновенный человек, великий ученый, а хобби у него – инструменты... Газетчики выдумали его сразу, махом, в один присест. Не человека – догму... А ему нравится гвозди в Праге покупать... Все уложены, как спички, в пластиковой прозрачной, вроде как с духами, коробочке... Увидит мальчишка такие гвозди, сам к инструментам потянется... Но что за этими гвоздями? Структура, связи, отношения, чья-то большая добросовестность, сам человек, наконец...
Он меня спрашивает: «Почему красоты у нас такой нет»?... О чем это? О гвоздях или добросовестности?... Не ерунды, сказал, красоты. «Бриллианты в магазине красивы, а гвозди нет...». Ответ он и сам знает. Размах не тот, и гвоздей больше требует. Удобный ответ. А зачем спрашивает?... Может быть, вчера и не спросил...
Тут рация привлекла к себе внимание необычным сигналом. Академик послушал и, не уловив для себя нужного, повернулся вновь ко мне.
– А те, кто гонит поток жухлой одежды на склад, они разве только женщину этим унизили? К тому же там, вдали?... Народные деньги в канализацию, в утиль?... Нет. Еще подбросили кое-что в багаж приятелю вашему заграничному. Не с пустыми руками драпает... Умный, каналья... Он от вас чего хотел? Заставить самому поверить в бессмысленность материнской нищеты. Подвиг незаметныйсделать никчемным. Больней, как я понимаю, для вас не придумаешь. Короче говоря, заставить вас предать ее, память о ней предать... Он-то хорошо понимает, что легко предают от пересытости... А разве она бессмысленна та наша давняя горькая нищета?... Но я, когда вижу, например, сваленный в канаву трактор, не могу избавиться от мысли: кого-то он предал, незнакомый алкаш. И меня, и вас предал, и матерей наших, и себя то же предал, свое людское достоинство... Так все тесно одно с другим связано. Дальнее, близкое, бытовое, государственное, чужое и наше. Нельзя оставлять равнодушных в блаженной уверенности, что на все есть охранительные причины-поводы...
– Тетрадку вы разорвете пополам, – сказал я.
– Может быть, если не уговорю.
Он улыбнулся в четвертый раз неулыбчивым своим, усталым, лицом.
– Ну, хорошо, а странички о детях для вашей работы...
Я не успел договорить.
– Вижу в этом символику. Дети – самый верный символ человечности, родник ее, суть, основа, начало, зеркало. Куда же глядеться, как не в это зеркало?... Титаны кричат об эгоизме! Но кто из них, думая об урожае, вспоминал о зерне?... О детях... Каждый человек рождается счастливым ребенком. Или каждый ребенок рождается счастливым человеком. Добрым, искренним, неравнодушный... Дети моделируют, взрослый мир. А вы, наивный Дон Кихот, предлагаете моделировать взрослый по-детскому. Я с этим согласен. У многих из нас, как скажут электронщики, чувствительность не хуже нескольких микрофарад, а надо бы в миллионы раз больше. Как у детей... От нее, может быть, в землетрясениях изойдет мир, но прежним остаться не сможет. – Он приподнял над столом тетрадь. – Вот и давайте с вами проверим эту чувствительность. Кто и что увидит в нашей книге? Наивное, серьезное, пустое?