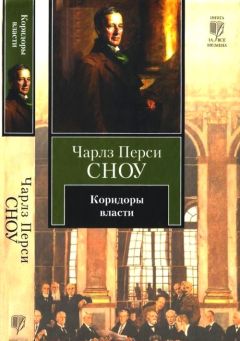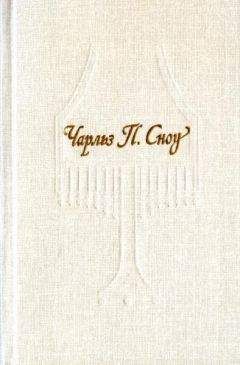Похвалы доносились и из других кругов — впрочем, не менее опасных. Роджера начали цитировать независимые представители оппозиции; нет, не официальные спикеры — этим хватало своих проблем, эти тяготели к сглаживанию, — но сторонники полного разоружения, пацифисты, идеалисты. Они не являлись организованной группировкой — числом вряд ли превышали три десятка, зато владели языком и не были ангажированы. Прочитав одну из их речей, где Роджер удостоился похвалы, я желчно подумал: «Храни нас Господь от дружеских похвал».
Роджеру все это было известно. Со мной он об этом не говорил. Он вообще не имел привычки распространяться о своих опасениях, упованиях и намерениях. Однажды он упомянул Эллен, в другой раз, в клубном баре, проставил мне большую кружку пива и ни с того ни с сего спросил:
— Льюис, вы ведь в Бога не веруете?
Ответ он знал.
— Нет, — сказал я, — не верую.
— Забавно, — отреагировал Роджер. Лицо его приняло непредумышленно озадаченное, даже простецкое выражение. — Я почему-то так и думал.
Роджер хлебнул пива.
— А я вот не могу представить себя вне религии. Конечно, многие любят Церковь как общественный институт, не веруя по-настоящему. Мне кажется, я бы тоже любил, если бы не веровал. Но я — верую.
Я спросил, во что конкретно.
— Да практически во все, что учил мальчиком. В Господа нашего на Небесах, в жизнь после смерти. Только не надо объяснять, что Небеса выглядят несколько иначе, чем я привык думать. Я и сам знаю. А не веровать не могу.
Роджер довольно долго рассуждал о Боге — невнятно, будто на ощупь продвигался. Должно быть, ему хотелось услышать от меня: «Да, и я тоже так чувствую». Он не лукавил — невозможно лукавить в подобных признаниях. А все-таки где-то в закоулках моего разума таилась нехорошая мысль: человек, который столь откровенен в одном аспекте, наверняка откровенничает с целью отвлечь внимание от аспекта другого, подлежащего тщательному замалчиванию.
Еще я думал, что Роджер это не намеренно делает, а подсознательно. Но меня не покидало ощущение, что его откровенность в этом вопросе призвана скрыть истинные взгляды на нечто иное.
До сих пор я гнал от себя вопрос, не заданный в свое время Гектором Роузом, но, несомненно, им подразумеваемый, притом с привычной желчью. Я-то знаю Роджера, а Роуз — нет, и ни малейшего желания не имеет узнать. Роуза не интересуют ни цели Роджера, ни стремления, ни тем более вера. Роуз полагает, что люди в действиях руководствуются исключительно принципом «что хочу, то и ворочу»; должен заметить, он часто — чаще, чем я даю себе труд фиксировать в памяти, — бывает прав на сто процентов. О Роджере он мне только один вопрос задал: «Как он поступит, когда до дела дойдет?»
Мне Роджер ничего не сказал. На следующей неделе я получил от него всего одну записку — приглашение на холостяцкий ужин на Лорд-Норт-стрит. Ужин назначили на завтра после приема в Ланкастер-Хаус.
Роджер и туда успел. Прошелся под руку с премьером по ковру, в лучах люстр и высочайшего расположения. Впрочем, премьер отнюдь не выделял Роджера — свою долю премьерской благосклонности получили все министры, включая Осболдистона и Роуза. Премьер на каждого нашел бы время, с каждым прогулялся бы под люстрами. Аналогичный прием — идентичный данному вплоть до фамилий в списке приглашенных — мог совершиться лет сто назад, с той только разницей, что имел бы место в доме премьера, да еще, судя по отчетам политиков Викторианской эпохи, которые вспомнились мне, наблюдавшему с лестницы, сто лет назад на приемах было куда строже с алкоголем.
Вообще прием устроили в честь министра иностранных дел. Присутствовали политики с женами, а также чиновники с женами. Жены политиков были одеты богаче — и ярче — жен чиновников. Зато сами чиновники были ярче политиков, так что человек неискушенный мог бы счесть их представителями сословия более высокородного. Помимо фрачных пар они надели свои кресты, медали и орденские ленты; в частности, Гектор Роуз — обычно мрачноватый в плане костюма, в тот вечер затмил практически всех.
Зал заполнялся, гости сместились на лестницу. Маргарет стояла с Осболдистонами. Я пошел было к ним, меня перехватила Диана Скидмор. Я вслух отдал должное ее платью и сапфировому гарнитуру. Впрочем, ни платье, ни великолепные сапфиры не скрывали нервозной бледности. Зато Диана, как всегда, успешно симулировала — на сей раз хорошее настроение. Или, вернее, хорошее настроение намертво въелось в нее, стало таким же брендом, как и мартышечье личико. Диана исправно кивала, махала и улыбалась всем знакомым.
Одарив взглядом премьера, который теперь прогуливался под руку с Монти Кейвом, она заметила:
— Он отлично держится, не правда ли?
Премьера она хвалила, как директор школы мог бы хвалить тринадцатилетнего участника спортивных соревнований.
— Кстати, Льюис: а где Маргарет?
Я указал на Маргарет и повел к ней Диану — знакомить с Осболдистонами. Хоть кого-то она в этом зале не знала.
Сначала она сама выразила желание познакомиться, еще больше оживилась, однако не успели мы пройти и трех шагов, заявила:
— Не желаю больше никого знать. С меня и старых приятелей довольно.
На секунду я усомнился, что расслышал правильно. Тогда, у себя в столовой, при своих гостях, она действительно сорвалась. Теперь глаза ее сверкали совсем не от слез.
Прием был в самом разгаре. По сравнению с бассетскими выходными Диана отлично держала себя в руках. Мы говорили о семейной жизни, тема ее опечалила. А она, Диана, не привыкла ничего не предпринимать по поводу своей печали. Она больше не может жить одна в огромном доме. Ей нужен человек, нужно общение. Надоело играть в девочку, хлопать ресницами перед очередным гуру, мимикрировать — этого все равно мало. И романов — мало. Она хочет постоянства.
— Вы не годитесь, — с похвальной — и практичной — прямотой отрезала Диана. — У вас жена.
В гостиной, кажется, не было ни одного недовольного лица. Весьма редкое явление, даже для приемов такого уровня. И вдруг я увидел Каро об руку с Роджером. Оба улыбались ослепительными публичными улыбками, какие вырабатываются у людей, постоянно находящихся на виду. Есть ли в этом зале еще супружеские пары, что трясутся над аналогичными тайнами? Наверняка есть, и наверняка те, на кого в последнюю очередь подумаешь, — хотя количество их, пожалуй, разочарует потенциального сплетника. Нет, в этой отдельно взятой гостиной мужчины и женщины веселы, оживлены и благодушны. Про таких говорят «с осени закормлены». В воздухе витали разреженные флюиды адюльтера. Но в основном эти мужчины и женщины не отираются у границ института семьи и часто находят в своем поведении больше радости, чем иные — в коротких перебежках через указанные границы. И по их тону, или словам, или повадкам не видно, чтобы они полагали, будто стоит свернуть за угол — и вдохновленные истинным чувством плотские наслаждения обрушатся, затопят, увлекут под сень струй. Возможно, иногда думается мне, это и есть непременное условие деятельного существования.
Как бы то ни было, присутствующие в основном казались довольными жизнью. А в упомянутый вечер особое удовлетворение каждый находил в лучах отраженной славы — каждый, включая премьера, с той оговоркой, что отраженная слава была его собственная. По крайней мере один утешительный приз налицо. Интересно, каковы остальные?
Уже со всеми распрощавшись, мы с Маргарет ждали в холле, пока разъедутся на служебных автомобилях высокопоставленные гости. Слышались объявления: подано авто лорда Бриджуотера; авто мистера Леверетт-Смита; авто бельгийского посла; авто сэра Гектора Роуза.
— Чему улыбаешься? — спросила Маргарет.
А я как раз вспоминал давний разговор с лордом Луфкином.
— Чего ради, — спросил я, — вы ведете такую жизнь, зачем вам постоянная нервотрепка? — И сам же ответил: ради власти. Это понятно. Единственное, ради чего еще можно так надрываться, — свобода передвижения.
Ни лорд Луфкин, ни его отец, ни дед не ездили в пределах Лондона ни в кебах, ни в такси, ни тем более в омнибусах. Нет, средство передвижения им всегда подавали к крыльцу. Жизнь у лорда Луфкина собачья, это верно; зато он не знает неудобств в пути, передвигается словно на ковре-самолете. Лорд Луфкин не усмехнулся моему предположению — он совершенно серьезно кивнул.
Увидев очередного приглашенного на холостяцкую вечеринку, я решил было, что Роджер допустил тактический просчет. Собрались Монти Кейв, Леверетт-Смит, Том Уиндхем, Роуз и Осболдистон, а еще Фрэнсис Гетлифф. Логика вполне понятная: Кейв — ближайший из политического окружения Роджера; Леверетт-Смит и Уиндхем должны знать, что происходит. Остальные, я в том числе, также считаются сторонниками политики Роджера. Но все за исключением Фрэнсиса были накануне у премьера. На месте Роджера я бы выждал, пока за сроком давности померкнет блеск избранного кружка, — тогда Фрэнсису было бы не так обидно, что для премьерского приема он недостаточно хорош.