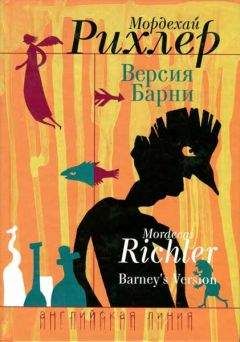Он улыбнулся и стиснул мне руку, а я вернулся на кухню, где открыл для Соланж бутылку шампанского.
— Хорошо бы ты еще за Шанталь перестал волочиться, — сказала она.
— Да ну! Ты выдумываешь.
— Она ведь не знает, какой ты хулиган. Она такая беззащитная.
Я открыл холодильник.
— У нас есть выбор. Есть банка печеночного паштета. Могу подогреть каша книшес[207]. А еще, если жаба меня не задушит, могу разделить с тобой вот эту баночку икры.
Тени миссис Огилви.
В газете «Газетт» сегодня утром я обнаружил статью о хорошенькой учительнице музыки из Манчестера, которой теперь сорок один год и она обвиняется в том, что двенадцать лет назад соблазняла мальчиков в возрасте от тринадцати до пятнадцати из состава детского оркестра. Предполагаемые жертвы, у которых память проснулась после двухдневного семинара по противодействию жестокому обращению с детьми, рассказали судье, как она их, бедных, обижала. Один пострадал от нее после очередного урока игры на скрипке, когда он был в нежном возрасте четырнадцати лет. «Пенелопа легла на кровать и увлекла меня за собой. Она расстегнула блузку и разрешила мне трогать ее груди. Я расстегнул ей джинсы. На ней были красные шелковые трусы. Она залезла мне рукой в штаны. Я занимался с нею оральным сексом в течение двадцати минут. После этого она напоила меня чаем с шоколадными конфетами и сказала: "Какой ты, оказывается, шалунишка!"»
В ходе другого инцидента, происходившего после рождественской вечеринки с возлияниями, по словам второго якобы пострадавшего, «присев на край кровати, Пенелопа сняла трусы. Расстегнула блузку, легла на спину, закрыла глаза и всем давала».
Судья распорядился прервать слушания по делу, поскольку предположительно имевшие место инциденты происходили давно и очень трудно теперь найти свидетелей и какие бы то ни было доказательства, которыми можно было бы подтвердить или опровергнуть показания учительницы, обвинения отрицающей. Оглашая вердикт, он сказал, что мальчики — ему это совершенно очевидно — не понесли никакого психологического ущерба, а, напротив, участвовали во всем этом добровольно и «безмерно наслаждались происходящим». Зря только он не добавил для равновесия, что Пенелопа конечно же делала для приобщения юношества к музыкальной культуре несколько больше, чем Иегуди Менухин. Когда мальчики достигали пятнадцатилетия, интерес к ним у Пенелопы пропадал. К сожалению, то же самое было и с миссис Огилви. Для меня этот жестокий удар был лишь отчасти смягчен тем, что я завел себе новую подружку — Дороти Горовиц. Дороти была моя ровесница и ничего такого мне не позволяла помимо обжиманий в гостиной на клеенчатой софе или на скамье парка «Утремон», но даже и эти удовольствия были отравлены тем, как жестко она проводила политику зонирования. Дороти отдергивала руку как от огня, едва я попытаюсь направить ее ко вздрагивающему корню моей страсти, который выскакивал, как чертик из коробочки, потому что соответствующие пуговицы бывали заблаговременно расстегнуты.
Шел тысяча девятьсот сорок третий год. Армия фельдмаршала фон Паулюса уже подверглась разгрому в Сталинграде, американцы захватили Гвадалканал, а я разжился плакатиком с фотографией «голливудской наяды» Уильямс в раздельном купальнике в горошек и прицепил его к стене в своей комнате. Моя мать занялась тогда сочинением анекдотов (она отправляла их по почте Бобу Хоупу и Джеку Бенни) и реприз, которые тем же способом предлагала Уолту Уинчеллу, а мой отец уже щеголял в форме стража порядка. Иззи Панофски был единственным евреем во всей монреальской полиции. Вся наша улица Жанны Манс им гордилась.
А в настоящий момент, наскоро проглотив завтрак у себя дома в «Замке лорда Бинга», я решил воспользоваться тем, что Маккеев, живущих прямо подо мной, нет дома — уехали в свой загородный коттедж на озере Мемфремагог. Скатал в гостиной ковер и отодвинул портьеру, скрывающую огромное, до полу, зеркало, которого я немного стесняюсь перед посторонними, но оно мне совершенно необходимо. Затем я облачился во фрак, надел цилиндр и верные чечеточные туфли «капецио-мастер-тап», после чего сунул в CD-плеер диск с «Bye Bye Blackbird» в аранжировке Луи Армстронга. Не забыл, коснувшись шляпы, поклониться почтеннейшей публике с галерки и с тростью под мышкой для разминки сделал несколько проходок с разворотами, потом пару прыжков — хоп! хоп! — (уже лучше), после чего (а ну-ка, без помарочек!) прошелся в ритме ча-ча-ча: каито, аи-яй-яй!.. Ун каито де ту корасон. М-та-та, м-корасон! Выходит вроде бы! — а значит, можно попробовать и шим-шам-шимми. Попробовал и рухнул, задыхаясь, в ближайшее кресло.
Ну вот, — подумал я. — Приехали. Дыц, тыц… поц! И в который раз решил понемногу завязывать с курением сигар, поеданием обвалянных в муке отбивных средней жирности, перестать наливаться пивом с «икрой из говядины» [Это называется «телячья икра». — Прим. Майкла Панофски.] (вкуснейшая, надо вам сказать, штука, ее специально под пиво подают в «Экспрессе»), зарекся в три горла жрать коньяк Х.О…. что еще? — «мраморные стейки на ребрышках» в заведении «У Мойши», ну, кофеин, это понятно — короче, надо лишить себя всего того, что стало мне вредно с тех самых пор, как я могу это себе позволить.
Да, так о чем бишь я? Ага. Год тысяча девятьсот пятьдесят шестой. Я давно уже вернулся из Парижа. Клара мертва, но еще не икона; у Терри Макайвера вышел первый роман, и литература еще могла бы пострадать от него куда меньше, если бы его сразил на взлете тоже какой-нибудь джентльмен из Порлока[208]; что касается Буки, то он главным образом вдарял по героину и каждый раз, когда оказывался прочно на мели, писал мне. Денег для него мне было не жалко, но я выкраивал их с трудом — как раз тогда я пустился в плавание по мутным волнам ТВ-индустрии, бился и барахтался и никогда не платил по счетам до Последнего Уведомления. В довершение всех моих тогдашних трудностей я, как последний идиот, возобновил связь с Абигейл, а она — господи ты боже мой! — сразу стала намекать, что готова уйти от Арни ко мне, прихватив с собою еще и двоих детей.
Одну секунду! Не переключайтесь. Перелистывая свой дневник читателя, я наткнулся на высказывание, очень уместное для того времени и той проблемы, в которой я тогда жутко погряз. Это слова Доктора Джонсона, написанные в 1772 году, когда ему было шестьдесят три: «Мой ум расстроен, память путается. В последнее время я с бесплодной настойчивостью пытаюсь направлять мысли в прошлое. Но я еще плохо владею мыслями; почти каждый раз какой-нибудь неприятный эпизод выбивает меня из колеи, лишая покоя».
Вот дальше и пойдет один такой неприятный эпизод, а начался он следующим образом. Однажды мой бухгалтер, гад и мерзавец Тед Райан, послал Арни в головной офис банка «Монреаль» с запечатанным конвертом, сказав, что в нем лежит подписанный чек на пятьдесят тысяч долларов. Но когда служащий банка вскрыл конверт, он нашел там фотографии голых мальчишек и приглашение на ужин при свечах к Арни домой. Осатаневший Арни разыскал меня в «Динксе».
— Есть кое-что, чего ты не знаешь. Каждое утро, прежде чем сесть на рабочее место, я захожу в сортир и меня рвет. У меня уже опоясывающий лишай завелся. Сидим с Абигейл вечером, смотрим по ящику игру «Стань миллионером», и вдруг я начинаю рыдать. При этом оправдываюсь — это, мол, я так, ничего. Ага. Ничего себе ничего! Барни, я твой друг, а он — нет. Ну ты вспомни, как в детстве-то было. Когда ты не мог решить на экзамене пример по тригонометрии, кто кинул тебе бумажку с ответом? Я и тогда был горазд в математике. А теперь? Сколько лет уже я для тебя жонглирую цифрами? Меня ведь за это и посадить могут, а я хоть слово сказал? Выгони ты эту сволочь. Я мог бы выполнять его работу, даже если одну руку мне привязать к заднице!
— Арни, я не сомневаюсь в твоих способностях. Но ты ведь не ездишь на морскую рыбалку в заливе Рестигуш с Маккензи из банка «Монреаль»!
— Да я в жизни не мог насадить червя на крючок, мне это противно.
— Ты что, не знаешь, как многим я рисковал, проворачивая то дельце с земельными участками? Там потонуть было — раз плюнуть. Арни, мне придется терпеть его еще год. Максимум.
— Я уже на детей кричу. А телефон звонит, так я дергаюсь, будто в меня стреляют. В три часа ночи просыпаюсь, оттого что еще во сне начал ругаться с этим юдофобом. Так ворочаюсь в постели, что бедная Абигейл не может глаз сомкнуть, поэтому раз в неделю ей приходится отсыпаться вне дома. По средам чего-то там накомстрячит, наготовит и едет со всем этим в Виль-Сен-Лоран. У Ривки Орнштейн ночует. Я не виню ее. Приезжает хотя бы отдохнувшая.
— Сколько я плачу тебе, Арни?
— Двадцать пять тысяч.
— Со следующей недели будешь получать тридцать.