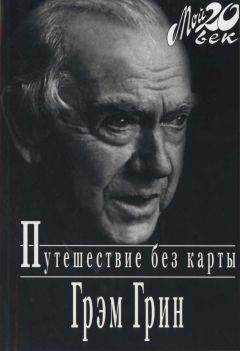– Но мы же решили, милый, – об этом лучше молчать. Зачем растравлять раны.
– Да.
– Нужно думать о себе.
– Да.
Он подошел к кровати и положил платок жене на лоб. Потом, сев на стул, продел руку под сетку и сжал ее пальцы. Они производили странное впечатление – дети, одни, без взрослых, потерявшиеся в чужом городе.
– Ты взял билеты? – спросила она.
– Да, милая.
– Попозже я встану и уложу вещи. Но голова так болит. Ты сказал, чтобы заехали за багажом?
– Забыл.
– Все-таки тебе не мешало бы об этом позаботиться, – проговорила она слабым, капризным голосом. – Больше ведь некому. – И после этой фразы, которой следовало бы избежать, оба замолчали. Потом он вдруг сказал:
– В городе большое волнение.
– Неужели опять революция?
– Нет, нет. Поймали священника и сегодня утром его, беднягу, расстреляют. Я все думаю: может быть, это тот самый, которого Корал… то есть тот, которого мы спрятали у себя.
– Вряд ли.
– Да.
– Священников много.
Он отпустил ее руку и, подойдя к окну, выглянул на улицу. Парусники на реке, асфальтовый, без единой травинки, скверик с бюстом генерала – и всюду, куда ни глянь, стервятники.
Миссис Феллоуз сказала:
– Хорошо, что мы возвращаемся домой. Мне иногда казалось, что я тут и умру.
– Ну, зачем ты так, милая.
– Умирают же люди…
– Да, умирают, – угрюмо сказал он.
– Вот опять! – резко сказала миссис Феллоуз. – Ты же обещал. – Она протяжно вздохнула: – Бедная моя голова.
Он сказал:
– Дать тебе аспирина?
– Не знаю, куда я его дела. Теперь никогда ничего не найдешь.
– Пойти купить?
– Нет, милый, я не могу оставаться одна. – Она продолжала с наигранной бодростью: – Вот приедем домой, и я выздоровею. Позовем настоящего врача. Мне иногда кажется, что это не просто головная боль. Я говорила тебе, что от Норы пришло письмо?
– Нет.
– Дай мне очки, милый, я тебе прочитаю – то, что касается нас с тобой.
– Они у тебя на кровати.
– Да, правильно. – Один парусник отчалил от берега и пошел вниз по течению широкой ленивой реки к морю. Миссис Феллоуз с удовольствием начала читать: – «Дорогая Трикс! Как ты, наверно, страдаешь. Этот мерзавец…» – Она осеклась: – Ах да… Еще тут вот что: «Вы с Чарлзом поживете, конечно, у нас, пока не подыщете себе что-нибудь подходящее. Если не возражаете против половины дома…»
Капитан Феллоуз вдруг резко сказал:
– Я никуда не поеду.
– «Арендная плата всего пятьдесят шесть фунтов в год – не считая других расходов по дому. Для служанки отдельная ванная».
– Я остаюсь здесь.
– «Отопление из кухни». Что ты там несешь, милый?
– Я не поеду.
– Мы столько раз это обсуждали, милый. Ты же знаешь: если я здесь останусь, тогда мне конец.
– Так не оставайся.
– Но не поеду же я одна, – сказала миссис Феллоуз. – Что подумает Нора? И вообще… да нет, это немыслимо.
– Работу здесь человек всегда найдет.
– По сбору бананов? – сказала миссис Феллоуз с холодным смешком. – Не очень-то это у тебя получалось.
Он в ярости повернулся к кровати.
– А ты можешь, – сказал он, – можешь убежать отсюда и оставить ее.
– Я не виновата. Если бы ты был дома… – Она заплакала, съежившись под москитной сеткой. Она сказала: – Одна я туда живой не доеду.
Он устало шагнул к кровати и снова взял жену за руку. Нет, бесполезно. Они оба осиротели. Им надо держаться друг друга.
– Ты не бросишь меня одну, милый? – спросила она. В комнате стоял сильный запах одеколона.
– Нет, милая.
– Ты понимаешь, что это немыслимо?
– Да.
Они надолго замолчали, а солнце поднималось все выше и выше, накаляя комнату. Наконец миссис Феллоуз сказала:
– О чем?
– Что?
– О чем ты думаешь, милый?
– Я вспомнил того священника. Странный тип. Он пил. Неужели это тот самый?
– Если тот самый, так поделом ему.
– Но какая она была потом! Вот что мне непонятно. Точно он открыл ей что-то.
– Голубчик, – донесся до него хоть и слабенький, но твердый голос с кровати. – Ты же обещал.
– Да, прости. Я стараюсь как могу, но это получается само собой.
– У тебя есть я, у меня – ты, – сказала миссис Феллоуз, и письмо Норы зашуршало на одеяле, когда она повернула к стене прикрытую платком голову, прячась от безжалостного дневного света.
Нагнувшись над эмалированным тазиком, мистер Тенч мыл руки розовым мылом. Он сказал на своем дурном испанском языке:
– Не надо бояться. Станет больно, сразу же говорите. Комната хефе временно превратилась в зубоврачебный кабинет, и это стоило немалых затрат, так как доставить в столицу надо было не только самого мистера Тенча, но и шкафчик мистера Тенча, и зубоврачебное кресло, и таинственные упаковочные ящики. В ящиках этих пока что была солома, но обратно они вряд ли вернутся пустыми.
– Я уже несколько месяцев мучаюсь, – сказал хефе. – Вы не представляете себе, какая это боль.
– Надо было сразу ко мне обратиться. Рот у вас в ужасном состоянии. Ваше счастье, что еще не дошло до пиореи.
Он вытер руки и вдруг так и застыл с полотенцем и о чем-то задумался.
– Ну, что же вы? – сказал хефе. Мистер Тенч, вздрогнув, очнулся, подошел к своему шкафчику и стал вынимать и выкладывать в ряд орудия предстоящей пытки. Хефе настороженно наблюдал за ним. Он сказал: – У вас руки сильно дрожат. Как вы себя чувствуете? Может быть…
– Это от несварения желудка, – сказал мистер Тенч. – Иной раз столько черных мух перед глазами, будто в вуали ходишь. – Он вставил бор. – Теперь откройте рот пошире. – Он стал засовывать в рот хефе ватные тампоны. Он сказал: – Первый раз вижу такой запущенный рот, если не считать одного случая.
Хефе пытался что-то сказать. Этот приглушенный, нечленораздельный вопрос мог понять только дантист.
– Он не был моим пациентом. Его, наверно, кто-нибудь другой вылечил. В вашей стране многих вылечивают пулями.
Он начал сверлить зуб, поддерживая беглый огонь разговора; так было принято в Саутенде. Он говорил:
– Перед тем как мне выехать сюда, со мной произошла странная история. Я получил письмо от жены. Ни строчки от нее не было лет… лет двадцать. И вдруг как гром среди ясного неба… – Он наклонился к хефе и посильнее нажал бором. Хефе со стоном замахал руками. – Пополощите, – сказал мистер Тенч и, насупившись, занялся бормашиной. Он сказал: – Так о чем это я? Ах да, о жене. Она, по-видимому, ударилась в религию. Какое-то у них там общество – в Оксфорде. Как ее занесло в Оксфорд? Пишет, что простила меня и хочет оформить наши отношения юридически. Другими словами – требует развода. Она, видите ли, простила меня, – сказал мистер Тенч и, погрузившись в свои мысли и держа в руке наконечник бормашины, обвел глазами маленькую убогую комнату. Он рыгнул и другой рукой коснулся живота, щупая, щупая, стараясь найти точку скрытой боли, которая почти не оставляла его.
Хефе с широко открытым ртом в изнеможении откинулся на спинку кресла.
– То отпустит, то опять прижмет, – сказал мистер Тенч, совершенно потеряв нить своих мыслей. – Это, конечно, пустяки. Просто несварение желудка. Но жизни нет никакой. – Он хмуро уставился хефе в рот, будто там, между кариозными зубами, был запрятан магический хрустальный шар. Потом огромным усилием воли заставил себя наклониться и нажал педаль. Хефе весь окостенел и вцепился в ручки кресла, а нога мистера Тенча ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Хефе издавал какие-то странные звуки и взмахивал руками. – Держитесь, – сказал мистер Тенч. – Держитесь. Еще немножко в уголке. Сейчас кончаю. Сейчас, сейчас. Ну вот! – Он снял ногу с педали и сказал: – Господи помилуй! Что это? – Мистер Тенч бросил хефе на кресле, подошел к окну и выглянул вниз во двор. Отряд полицейских поставил винтовки к ноге. Держась за живот, он возмущенно проговорил: – Неужели опять революция?
Хефе выпрямился в кресле и выплюнул вату.
– Да нет, – сказал он. – Человека будут расстреливать.
– За что?
– За измену.
– По-моему, – сказал мистер Тенч, – обычно вы делаете это у кладбища. – Страшное зрелище притягивало его. Ничего подобного ему еще не приходилось видеть. Он и стервятники не сводили глаз с маленького тюремного двора.
– На сей раз это нецелесообразно. Может начаться демонстрация. Народ-то ведь темный.
Из боковой двери вышел какой-то маленький человек; двое полицейских поддерживали его под руки, но он явно старался не сплоховать, только ноги у него подкашивались. Полицейские проволокли этого человека через двор к дальней стене; офицер завязал ему глаза платком. Мистер Тенч подумал: да ведь я его знаю. Боже милостивый, надо что-то сделать. Точно твоего соседа ведут на расстрел.
Хефе сказал:
– Чего вы ждете? В зуб попадет воздух.
Но что можно было сделать? Все шло быстро, по шаблону. Офицер отступил в сторону, полицейские взяли ружья на изготовку, и маленький человек вдруг судорожно взмахнул руками. Он хотел что-то сказать. Что положено говорить в таких случаях? Тоже что-нибудь шаблонное, но у него, наверное, пересохло во рту, и он выговорил единственное слово – кажется, «простите». Ружейный залп потряс мистера Тенча, отозвавшись у него во внутренностях. Он почувствовал дурноту и зажмурился. Потом раздался одиночный выстрел, и, открыв глаза, мистер Тенч увидел, что офицер сует пистолет в кобуру, а маленький человек – опять же по заведенному шаблону – лежит у стены жалкой, бесформенной грудой тряпья, которую надо поскорее убрать. К нему быстро подбежали двое кривоногих полицейских. Была арена, и был мертвый бык, и ждать больше было нечего.