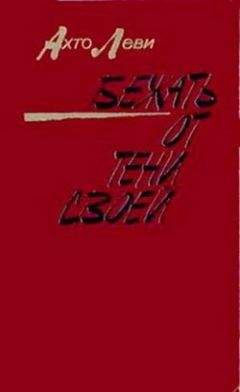Суки к перспективе соединения мастей относились с надеждой: они, как ни говори, понимали свою второсортность в уголовной жизни. В результате слияния мастей они могли бы почувствовать себя реабилитированными и стать снова полноправными сволочами, равными среди равных, и избавились бы от страха: угроза расправы всегда висела над ними, где бы они не были. Воры действительно представляли стихийно сложившуюся организацию, распространенную всюду в государстве, и иногда, бывало, безграмотно написанная на Дальнем Востоке ксива убивала, сколько бы не минуло времени со дня ее сочинения – приговора сходки, – человека, где бы он не находился. Сукам же самим наплевать на любые законы, потому их не волновало, каким они будут гибридом. Какие, собственно, должны быть законы у тех, чья природа – их нарушать? Какая честность у людей бесчестных?
Суки правы. Ну, не станет воровского закона – не будет также и воров? Куда же они денутся? Станут сразу честными людьми? Как фраера? А эти-то, фраера, честные ли на самом деле? Если да, то потому, что не способны быть нечестными? Значит, честные из-под палки?
По высказываниям покойного воровского мыслителя, Чистодела, честно живут только те, кому не из чего выбирать, когда стащить просто неоткуда.
Они встретились опять там же – в транзитных бараках. Отсюда их отправили в знакомом вагон-заке туда, откуда уходили «в крытую» – на Девятый спец. Бежали «на рывок», когда, сопровождаемые конвоем из самоохранников, следовали от вагон-зака тайгой к Девятке. Автоматные очереди раздались с опозданием. Решились на рывок как-то спонтанно, из-за того что пришедший на полустанок конвой, их встречающий, оказался без собаки. Когда началось болото, они поняли не сразу – лес как лес… Местами скользкие лужицы вскоре обернулись вязкой топью. Они выбежали на поляну, похожую на луг. Здесь Враль внезапно провалился. В будущем он напишет, будто спасся благодаря камню и ветке ольшанника… И никому даже в голову не приходило, что на поляне нет кустов, а в болоте – плавающих камней, способных удержать тяжесть человека.
Вытащил друга из трясины Скиталец. Но описывать подробности всего здесь приключенного излишне, потому что в мире уже много описаний всевозможных побегов. Единственно стоит сказать, что настигли их, когда они форсировали реку Пойму, когда Вралю в ногу угодила пуля, отрикошетившая с поверхности воды. Скит мог бы, конечно, бежать дальше, но он знал: если уйдет, Враля пристрелят, чтобы не мешал собаководам гнаться дальше за ним. Так в тайге везде делалось: когда беглецы разбегаются, то всех по одному и перебьют, – редко кого приводили из тайги живым. Скит помог другу встать и дохромать до берега, где их ждали двое с автоматами и собака.
– Что, бляди, пустить вас плыть по течению? – предложил один из автоматчиков вежливо. Но беглецов спасло то, что поймали их случайно собаководы не Девятки, а другой зоны, оказавшиеся недалеко. Девяткинские беглецы для этих собаководов были чужими… Чужое у них, оказывается, полагалось сохранять в целости для владельца, в данном случав оно принадлежало Бугаю.
Судили их в уже знакомом управлении, после чего они опять очутились в транзитном бараке дожидаться этапа в закрытую тюрьму.
Когда в Кировоградской тюрьме на Враля надели наручники и втолкнули в карцер, он успел лишь кивнуть Скитальцу, которого подобным же образом запихивали в другую камеру, и больше встретиться им здесь не довелось. Отсидев в порядке знакомства семь суток, Враля перевели в жилой корпус и поселили в одиночку: оказывается, какое-то роковое напутствие девяткинского кума в его деле продолжало влиять на его репутацию…
Однажды в марте ему снился вещий сон: в тюрьме гремят замки, грохочут двери, зеков из камер вызывают с вещами. Они уходят, а Враль будто находится в общей камере, и уходящие зеки оставляют ему свои недоеденные пайки хлеба. Он убирает за ними камеру, подметает… Утром же началось остервенелое перестукивание по всей тюрьме – взяв «телефон» (алюминиевую кружку), Враль приставил ее к стене (включился в «сеть»), чтобы послушать, чем вызван переполох, и удалось ему расшифровать любопытное сообщение: любимый товарищ Сталин умер. Через несколько месяцев тюрьма еще более активно перестукивалась: амнистия!
Теперь он и сам стал энергично «названивать» во все стороны и установил, что одних уже освободили, другие освобождаются, третьим сократили сроки. Что всех, кому что-то положено, водят в какой-то зал с множеством столов – на них «личные дела» зеков в алфавитном порядке, и тем, кого амнистия касается, зачитывается соответствующее постановление. А касается амнистия не только тех, кто осужден по указу и по первому разу, а вообще всех уголовников. У кого же 58-я – тому ничего не положено.
И понял тут Враль значение своего сна: у него имелась 58-я статья, пункт 14 – саботаж, который ему припаяли за один из побегов.
– Но это же вранье! – заорал он во весь голос. Ведь он, когда бежал, никакого саботажа не подразумевал. Он бежал потому, что бежать было его потребностью. Вранье это! Вранье!..
Закончился очередной тюремный срок. Враль последовал этапом обратно в Краслаг. Здесь ему неожиданно удалось сбежать, причем на этот раз «с концами», как принято говорить среди зеков об удачном побеге. Но, как уж повелось, судьба пошутила с ним в очередной раз: он сбежал, не зная, что через пять месяцев законно освободился бы. Постановление о сокращении срока находилось в его личном деле – по какой-то случайности в Кировограде ему не дали его подписать, а не из-за статьи 58-14, которая в данном случае (в связи с побегом) не считалась политической. Ему не повезло: он сумел бежать раньше, чем успели познакомиться с его делом в спецчасти управления в Решетах, куда его возвращали. Надо же! Повезло тогда, когда не надо было, чтобы повезло…
Он жаждал получить свободу, но никогда не задумывался: что будет с ней делать, заполучив ее. Не понимал, что такая воля – не свобода, и, естественно, растерялся. Разъезжал с места на место, из города в город, толкался среди людей, что-то искал, не понимая – что. Так он, собственно, и признался новому приятелю, которого встретил на городской толкучке в Таллине. Этого худощавого, похожего на Скита, молодого человека окрестили Орестом, сам он представился как Рест. И Враль ему объяснил, будто он, если полностью, то Сильвестр, а так… просто Вестер, а можно и Вест, чтобы получалось у них в рифму – Рест и Вест. Вокруг горланила толкучка, а они, явно симпатизировавшие один другому, стояли и изучали друг друга. Рест признался, что является помощником преуспевающего номенклатурного дельца, что работа – не пыльная: «уводить» у шефа поднадоевших ему баб, то есть, проще говоря, спать с ними.
Они подружились. Враль счел возможным довериться новому приятелю. Он признался, что находится на нелегальном положении, что особого опыта в этом деле не имеет, что раздобыл с трудом в одном лесном хозяйстве временный паспорт на чужую фамилию, а дальше не знает, как все сложится. Рест поинтересовался, за что Враль сидел, и тот поведал, что – ни за что, вернее за то, что в юности стащил в одном доме окорок, а в другом незалатанные штаны. В ответ Рест признался, что ходит по сонникам, но не из-за наживы, то есть не крадет. Такое никто не в силах понять. Рест не стал разъяснять подробно своей страсти, сказал, что в дальнейшем это сделает, что коротко об этом не скажешь, но он сможет помочь Вралю в трудоустройстве, даже достать комнатушку у одинокой старушки. Далее Вралю предлагалось сопровождать Реста в его ночных рейдах, но с условием, ничего не совать в карманы. Рест повел Враля в каменоломню к знакомому мастеру. Каменоломня – не монетный двор: качество документов Враля в здешней конторе никого не занимало; платили за сдельную работу неплохо, и Враль остался доволен. Они часто встречались. Рест проживал на Пирита в мансарде, набитой книгами. Этот внешне элегантный человек тридцати трех лет являлся загадкой: он действительно не крал и такой эксгибиционизм был недоступен пониманию Враля.
Однажды он побывал с Рестом на таком его мероприятии и оказался участником мало интересного приключения, на его взгляд. Смотреть – просто смотреть на спящих в собственных постелях людей представлялось Вралю и неестественным, и скучным, тем более что в доме было чем поживиться. Единственно, что они себе позволили, это закусить в чужой кухне. Рест объяснил, что наслаждается осознанием себя как рока, судьбы, таинства в тех домах, где люди спят (везде люди в какой-то час спят, не бывает, чтобы они совсем не спали, надо только знать, когда кто спит): они в его власти и их имущество тоже, а главное – даже их жизнь.
Рест пробовал передать приятелю смысл этого ощущения. Он волен, что называется, жить в чужом доме без разрешения хозяев – жить в их присутствии, волен смотреть, – а это даже лучше, чем владеть, – на их так называемые ценности, но – и это квинтэссенция, это и есть главное – смотреть самих людей тогда, когда они уверены, что кроме Господа Бога их никто не видит. Это лучше театра, кино – подобное ощущение трудно передать. Ты хочешь наблюдать святош? Как они трахают своих гусынь? Какие они мерзкие и жалкие! Днем заседают где-нибудь в президиуме – важные, респектабельные, в галстуках, а ночью, голые, пукают, словно лошади в конюшне. Представь себе такого гусака, как, скажем, Суслов, в ночной сорочке со своей суслихой… Рест в похожих спальнях побывал. Непременно надо избегать маленьких жилищ – в них не развернешься, нет свободы передвижения: Рест признался в наличии у него клаустрофобии. Он подолгу выбирал себе жертву, объект созерцания: в большом доме, объяснил он, места всем хватает, в одной из комнат люди ужинают или кувыркаются в постели, а в это время в других ты изучаешь их библиотеку или питаешься. И от важности этих мерзавцев, от их святости ни хрена не остается. Можно и пошутить… Однажды одну церковную крысу он застал с молоденьким парнишкой и так их напугал – обкакался бедолага.