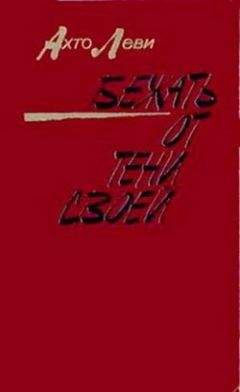– Меня различаешь?
– Одним глазом, – прошептал Враль. Он был почти гол, собаки все на нем разорвали.
– Ориентируйся на меня, иди следом, – велел длинный.
Они двинулись в путь: длинный впереди, за ним, отстав на три-четыре метра, Сильвестер Враль, потом молча шли офицеры, за ними солдаты и самоохранники – матерились, смеялись. Те из солдат и самоохранников, кому не удалось ударить Враля ни разу, зная дорогу, пристроились в удобных местах и ждали. Когда Враль с ними поравнялся – а он их не отличал от кустов, – на него опять посыпались удары прикладами. Наконец его, полуживого, доставили в зону, в кабинет кума. Тому необходимо было узнать, кто помог Вралю вынести сухари в лес и пластами дерна прикрыться. Враль, отирая руками засохшую кровь, признался честно, что может рассказать всю историю в трех вариантах, из которых ни один не соответствует истине… Кум принялся колотить его толстой линейкой – линейка разбилась. Тогда кум стал работать кочергой, та согнулась, но уцелела. Время от времени Враля приводили в чувство, поливая водой.
Его отвели в карцер. Окно здесь оказалось без стекол, так что воздухом не ограничивали. Свежий осенний ветер дул из всех щелей. Враль не мог жаловаться на духоту, поскольку оказался уж очень легко одет, вернее, вовсе не одет. Кормили обильно, в том смысле, что он ничего не мог съесть, точнее, очень мало из штрафного пайка – болел, харкал, плевался кровью. В голову пришел странный вопрос: какая ему радость, что не родился в африканских болотах в семье негров-рабов? И не нашел ответа.
Когда лагерному начальству стало очевидно, что судить за саботаж Сильвестера Враля нет нужды, поскольку он, бесспорно, умрет, оно решило, будет лучше, если зек отдаст Богу душу в своей естественной среде – в зоне, среди себе подобных. Враля выпроводили в зону. Хорошо, что после месячного отдыха в проветриваемом помещении он уже стоял на ногах, мог… ходить не ходить, но двигаться. Бывший фельдшер, работавший в зоне парикмахером (бывший парикмахер – лагерный доктор, ничего определить не сумел), констатировал, что у Враля эксудативный плеврит и рекомендовал удалить из легкого жидкость. В данном поселении можно было, в чем Враль уже убедился, удалить не эксудативную жидкость из легкого, а как жидкость – всю кровь.
Когда кум с удивлением констатировал бессмертность Сильвестера Враля, он почесал свою небольшую лысину и согласился: делать нечего, судить Враля нет оснований – побег не состоялся. Оставить безнаказанным этого мерзавца кум тоже не мог… Устал он от этого организатора: все время казалось, что тот где-то что-то роет или другую пакость замышляет. Кум решил, что лучше всего будет им обоим, если Враль отправится в тюрьму, в «крытку». Чтобы ничего более не организовывал.
Затем были еще попытки к бегству и последующая кара, состоялся и побег до Красновишерска. И опять его судили, и опять «крытка». На этот раз в Балашеве. Это была его последняя крытка. Четвертая. К сожалению, у него не было возможности обозревать эту тюрьму в Балашеве с птичьего полета, потому он не мог сказать, как она выглядит снаружи. Внутри же тюрьмы мало чем отличаются друг от друга. Как «организатора», его и здесь поместили в одиночную камеру, и он с благодарностью вспомнил того кума, который создал ему столь лестную популярность. Он радовался одиночеству, возможности изучать классически социалистическую, человеколюбивую литературу из серии: «Жизнь в захолустье», «От всего сердца» и «Это всё о нем». Радовался одиночеству и потому, что ему надоел ежедневный человеческий лай как разговорная речь.
До встречи с Мором он совершал одинокие прогулки. В бескрайних просторах тюремного прогулочного двора его мысли устремлялись в единственно доступном направлении – в небо, в космос. И, взирая из этого каменного колодца вверх, он вопрошал пространство про зародившийся еще в детстве интерес: в чем все есть? В чем есть то, что есть вместилище всего? Что есть вместилище вместилища – в чем оно? Что есть бесконечность и в чем она находится? Пространство не отвечало. Он не обижался. Понимал: надо учиться узнавать. Встретился он с Мором в тот день, когда надзиратель-разводящий решил сэкономить время: на каждую камеру положено час, а камер многовато – больше, чем прогулочных двориков. Разводящие решили объединить на время прогулки населения «мирных» камер – не враждующих между собой заключенных.
– Ты не против гулять со стариком из двести первой? – спросили Враля.
В прогулочном дворе Враль увидел старика и узнал в нем Мора. Семь лет примерно минуло с тех пор, когда Враль покинул Девятку в Краслаге. За это время он повзрослел. Смотрелся постаревшим и Мор. Старик впился в вошедшего цепким взглядом и спросил:
– Ты был в Краслаге?
Весь час прогулки они посвятили узнаванию друг друга. Вспоминали значительных лагерных людей – имена, клички, привычки. Вспомнили, конечно, Скита.
Мор был тих, но властен. Враль его не боялся, однако не забывал, что этот согбенный как бы от тягостен жизни человек был на Девятке самым значительным из воров и, хотя это не рекламировалось, все знали, что настоящий хозяин в зоне – он. Враль относился к Мору почтительно и как к личности, и как к старшему, и как – он это четко осознал – к человеку мудрому. Старик не позировал своим интеллектом, не старался показаться умным, что свойственно многим в блатной жизни, у которых похвальба выпячивается из всех дыр, и многим, вполне нормальным и даже образованным фраерам на воле. Старик держался с достоинством, но раздражал как бы ироническим своим отношением. Бывало, Враль обижался и даже не выходил гулять или требовал вести его в другой двор. Потом они мирились. Старик не извинялся, но Вралю хотелось продолжать с ним общаться. Он понимал: жить со стариком в одной камере он бы не смог.
Обычно их беседы походили на допрос: старик распрашивал Враля о его жизни. Когда же тот о чем-то рассказывал уже в четвертой-пятой интерпретации, хохотал как безумный, хрипел, задыхаясь. Бывали и монологи, когда старик просвещал его. Он любил рассуждать о Боге и загробной жизни. Говорил, что в юности ему случалось быть в монастыре, но попов ненавидел, утверждал: всё зло – и войны и преступления – от религии.
Враль о себе рассказал с того дня, как стал себя осознавать, а помнил себя – как он, бывало, уверял – еще с того времени, когда его и на свете не было. И не шутил… Он помнил то, чего не понимал: что находился в сфере, куда доходил раздражавший его серый свет. Ему казалось, там были еще бесцветные и бесформенные существа. Даже помнил, что одновременно, боясь непонятного света, он жаждал в нем раствориться, но не помнил своего ухода из той замкнутой сферы и своего возникновения в беспредельном пространстве.
Мор, конечно, говорил и о жизни воров… Сегодня, завтра, послезавтра – о жизни воров, о конфликтах, сходках, резне. Месяц, второй и больше – всё об этом… Жизнь воровская – жизнь Мора. Тем не менее говорил он мало, больше расспрашивал Сильвестера-Враля. Со временем понемногу разговорился и сам. Из отрывков, рассказанных стариком про себя, и в уме склеенных Вралем, он составил хронологию жизни Мора. В ней была его молодость и то единственное деяние, не дающее ему никогда покоя, – когда он повесил собаку по просьбе бедных, живущих впроголодь, стариков-крестьян. Потом, с годами, все больше его преследовало воспоминание этого акта. Он возненавидел этих бедняков, ходивших в церквушку молиться о спасении. От чего? От кого? Бедностью замученные… Мол, сказано, спасение достигается через лишения и страдания и молитву, мол, только бедные попадут в царство Божие. Тогда что им еще вымаливать?! Им самой их жизнью райская благодать заслужена. А молодого Мора упросили повесить собаку… Если, – вопрошал Мор, – жизнь человеческая – божий дар, что же жизнь собаки? Кто дал жизнь собаке? Почему же ее можно повесить, словно негодяя?
Мор говорил о том, что, дескать, не знает Бога в лицо, не может он спросить у него, в чем он не прав, но кругом на его глазах совершалось столько убийств и никто ни о чем не переживал. Что же, убить человека проще, чем пса? Это к тому, что он и человека убил, даже не одного, но это его не мучило. Первой он убил женщину, когда была революция. До этого его за что-то посадили, по какому-то подозрению в принадлежности к белым. Освободили по просьбе его невесты. Из случайного письма к ней он узнал, что комиссар большевиков, когда Мор находился в большевистской тюрьме, побывал у нее. Мор убил ее кочергой случайно, не рассчитав силу удара, а потом установил, что комиссар с его невестой просто вместе учились в одном классе. Опять тюрьма… Опять монастырь… Однажды обокрали монастырскую церковь (Мор был сторожем), его обвинили, приговорили к черным работам, – он ушел в мирскую жизнь.
– Шикарно жила эта братва в том монастыре, – рассказывал Мор мрачно, – но это не для меня: так жить – стыдно.