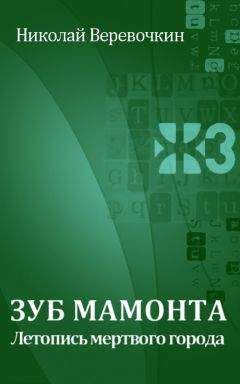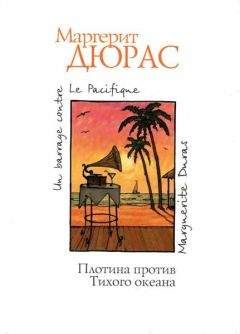— Люди в нем не живут, — хмуро отвечал Козлов, не разделяя его восторгов.
— Слышите — музыка. Фортепиано.
Козлов остановился, прислушавшись. Над полынным полем, над сонными, знойными развалинами рассыпались солнечные, жизнерадостные звуки.
— Чайковский. «Времена года». «Песнь косаря», — сказал Костя.
С удивлением посмотрел Козлов на мальчишку. Козлов был равнодушен к классической музыке. Во времена, когда по радио часто транслировали мелодии из концертных залов, он не вычленял эти звуки из общего потока шумов, сопровождающих жизнь: шелеста дождя, шипенья газовой плиты, гула машин за окном, ссоры соседей за стеной. Но сейчас, в обеззвученных руинах мертвого города, эта едва слышная робкая россыпь застала его врасплох и странно волновала. Казалось, что звуки рождались в его душе, что он сам был автором этих мелодий. Стоило Косте сказать: «Охота» или: «Осенняя песнь», и настроение осеннего леса, пустого поля нежной болью сжимало сердце. Только что он кусал губы, прислушиваясь к октябрьскому шелесту безысходных дождей, пытаясь сдержать слезы, и вот уже полный надежды летит по заснеженному лесу на тройке к дому, где его ждут родные люди, и березы мелькают мимо.
Дослушать «Времена года» им не дали. Черный джип прошуршал сквозь заросли полыни, хлопнула дверца, и женщина закричала:
— Саша, не надо!
Козлов оглянулся. Рядом стоит Александр Шумный. Лицо искажено яростью. В руках у него саперная лопатка.
— Я тебе, скотина, башку сейчас раскрою! — кричит он, замахиваясь лопаткой.
— Папка! — это Костя.
Шумный бросает саперную лопатку на землю. Отшвыривает с колен Кости пакет. Из пакета вываливаются рыбешки. Окуньки еще живы и прыгают в пыли. Удилище летит в полынь. Женщина подхватывает плачущего Костю на руки и несет к машине, что-то шепчет ему на ухо, успокаивая.
— С тобой мы еще поговорим, — обещает Шумный и уносит инвалидную коляску в машину. Хлопают дверцы. Джип, яростно разбрасывая из-под задних колес комья земли, разворачивается.
В мертвом городе тихо звучит двенадцатая пьеса из цикла «Времена года». Козлов никогда не узнает, что называется она «Святки». Он не слышит музыки. Стоит и смотрит вслед машине.
Джип возвращается. Шумный подбирает рыбу, складывает в пакет. Поднимает удилище.
— Извини, — говорит он, протягивая пакет и удилище.
— Рыбу Костя наловил, — отвечает Козлов и берет удилище. — Лопату не забудь.
Большой, лохматый, сутулый, он уходит прочь. Шумный поднимает саперную лопатку, швыряет пакет в заросли полыни. Некоторое время смотрит вслед Козлову. Догоняет его.
— Вот возьми, — протягивает он деньги.
Козлов, не останавливаясь, смотрит на деньги, на Шумного.
— Знаешь, кто самый богатый человек на свете? — спрашивает он и сам же отвечает: — Тот, у кого ничего нет и кому ничего не надо.
— Извини, — говорит Шумный.
— Проехали. Забудь.
В глухом ущелье брошенных домов мертвого города в луже плавали три диких утки. Они не боялись одинокого человека, принимая его за безобидное существо вроде коровы. Козлов долго смотрел на беззаботных птиц. Вот так подойдет осенью мужик с ружьем и бабахнет в упор. Он поднял камень и швырнул в лужу. Пусть знают, что такое человек на самом деле. Пока не поздно. Тревожно крякая, шурша и посвистывая крыльями, утки стремительно пронзили косую тень в проеме домов.
Гремя велосипедом, запыхавшийся Руслан вломился в квартиру и весело заорал:
— Батя, спорим, ты такого язя еще не видел! — Он подошел к столу и высыпал из старенького рюкзака рыбу вместе с травой. — Посмотри, какой натюрморт!
Из травы серебрился бок язя, выглядывали два золотистых леща, белое брюхо щуки, иглы спинных плавников и ярко-красные хвосты окуней.
Три дня вместе с Мамонтовыми, Индейцем и Пушкиным жил Руслан на Тальниковом острове в устье Бурли. Обрывистые, каменистые сопки стояли на краю земли. За ними открывался простор, в котором не было ничего, кроме голубой пустоты: воды Степного моря сливались с небом. До восхода и перед закатом они выплывали к вешкам на прикормленные места. Самую крупную рыбу присаливали. Остальную поджаривали на костре. В солнцепек играли в водный волейбол. От острова в водохранилище выдавалась длинная песчаная коса. На отмели на двух жердях Мамонтовы повесили дырявую рыбацкую сеть. Ничего азартнее Руслану не доводилось испытывать. Кроме водного футбола, конечно. Плеск, брызги, крики чаек и игроков, сочные удары, то и дело приходилось падать в воду, доставая мертвые мячи. Мир звенел и вертелся пестрым колесом. Наигравшись, они устраивали гонки вокруг острова на резиновых лодках и, вконец обессилев, падали в раскаленный песок, впитывая в прокопченные тела солнечный витамин D. Но самым большим развлечением было наблюдать, как подкрадывался к стае диких уток с кленовым бумерангом в зубах Индеец, безуспешно пытаясь добыть на ужин селезня. Райскую, первобытную жизнь туземцев омрачали лишь оводы да комары. Солнце, ветер, тишина, перемежающаяся прибоем и шорохом камыша, сделали Руслана частью этой знойной благодати. Прокаленный летом, он погружался в таинственную прохладу глубины, переплывал протоку и карабкался на сопку. Он снова был захлебывающимся от беспричинного восторга ребенком, живущим по законам бессмертия. Закон этот — едва переносимое счастье существа, узнавшего, что смерти нет, наслаждение простыми вещами — зноем, ветром, шелестом трав и чистой кровью, стучащей в висках. Он не верит в смерть, он смеется над смертью. Острый клык обожженной солнцем скалы, способный выпотрошить его, как язя, проносится мимо в нескольких сантиметрах от живота. С шумом, пеной, как в шампанское, погружается он в булькающие, ухающие сумрачно-зеленые воды. Они смыкаются над ним воротами космоса. И тело его шипит, охлаждаясь. Он выходит на берег, выжимает плавки и, подняв их на древко, как флаг, идет по дикому, невероятно дикому, безлюдному месту, не чувствуя своей наготы, как любое дикое существо.
Козлов, по обыкновению лежащий на полу с книгой, не разделил восторгов Руслана. Он даже не поднялся, чтобы посмотреть улов.
— Ты не заболел? — слегка обиделся Руслан, но, увидев на лопатах свежую глину, спросил: — Кого хоронил?
Козлов поднялся, закурил, подошел к окну и только тогда ответил:
— Гофер умер.
— Как умер? — вскричал Руслан, не поверив в саму возможность смерти в такие счастливые, замечательные дни.
— Вот, на память взял, — не отрывая взгляд от окна, Козлов ткнул дымящейся сигаретой в угол, где в самодельной рамке стояла у стены картина. Одинокая береза под радугой. Мир после дождя за минуту до появления солнца. — На такой же березе и повесился.
Радуга, завет вечный между Богом и всякой душой земною, отчего же ты не появилась вовремя над отчаявшимся художником, странным человеком с глазами сумеречного существа?
— Дочь он очень любил, — сказал Козлов.
— А что с ней случилось?
— С ней? Ничего особенного. В институт не поступила. Домой возвращаться не захотела. Написала, что поступила. Зарабатывала на жизнь проституцией. Говорят, он ее по телевизору увидел.
Руслан подошел к окну. Они смотрели на одно и то же, но каждый видел свое. Руслан видел то, что есть на самом деле: развалины захолустного городка. Любопытный клен просунул ветвь, сотрясаемую воробьями, в пустую глазницу окна. Для Козлова в этих руинах была вся жизнь. Часть самого себя. Это были его дома. В черных проемах, как на картинах Гофера, все еще продолжали жить призрачные души умерших и навсегда уехавших людей. Он помнил их лица и голоса, их детей, собак и кошек, веселые и печальные события. Ему казалось, что этим пустым коробкам еще только предстоят отделочные работы, а молодые, веселые новоселы в нетерпении ждут акта приемной комиссии, предвкушая шумное вселение.
Они долго молчали, забыв про рыбу, лежавшую на столе.
Руслан подошел к картине, взял в руки. На обороте холста рукой покойного художника была сделана дарственная надпись: «Райским жителям. Жизнь — прекрасная катастрофа!»
Старый каменный пляж защищен от северных ветров растрескавшейся стеной плотины. Шумит перекат. Прокаленные солнцем, утонувшие в густой траве, замшелые валуны давно не делились своим теплом с купальщиками. Лишь стаи гусей плавают между каменными островами. Тревожно гогоча, старая гусыня выплывает на берег и, прикрыв выводок серыми крыльями, смотрит на небо. Что она там увидела? Старую газету, занесенную в заоблачные выси внезапным смерчем.
Светлана сидит в каменном кресле. В том самом, где зимой с пистолетом в левой руке сидел Руслан. Она смотрит на «божью коровку», ползущую по ее руке. На спинке кресла возлежит Индеец. На шее его — шнур. На шнуре нанизаны пять «куриных богов». Бедный Саша Пышкин выискивает на перекате самые красивые гальки, втайне просверливает в них дырки и незаметно подбрасывает Свете, чтобы сделать ее счастливой. Но эти дырявые камешки всегда находит Индеец. Он парнишка не жадный и готов поделиться своим везеньем, но «куриного бога» дарить нельзя. Хочешь не хочешь, а вся удача — твоя. Саша сидит в ногах у Светы и думает, куда бы скрытно подложить очередной камешек, чтобы на этот раз его непременно первой увидела она. Разве что в босоножку?