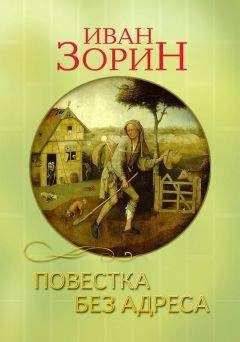— Такси не параша — занято не бывает, — раздалось над ухом, и по грубому голосу Вадим узнал Бабахина.
— А я как раз решил пообедать, — грохнувшись на сиденье, объявил Бабахин, как всегда, безразлично.
Таксист понял, что сопротивление бесполезно, но прежде чем ехать, воткнул в уши плейер.
Бабахин погрузнел, он едва не вываливался из дорогого костюма, верхняя пуговица которого была расстёгнута.
— Давненько не виделись… Ну как ты?
Бабахин ел глазами, прожигая карман, и Вадим испугался, что он увидит в нём дыры.
Из плейера пробивались электронная музыка.
— И как только голова не лопнет, — перевёл он разговор.
— Новая порода, — заржал Бабахин, — голова — как барабан! Спешат потреблять — не то, что мы. Помнишь, как штаны за копейки протирали?
Вадиму стало обидно. Он не жалел прошлого, и всё же его будто по щеке хлестнули.
— А их самих потребляют! — вспыхнул он. — Вон татуировки накалывают — выделиться хотят. А чем? Мечутся, как рыба в сети, себя не ищут.
— Зато мы больно много искали, — деланно зевнул Бабахин, — бегали с голым задом да языки на кухнях чесали.
Вадим открыл, было, рот, но Бабахин скривился:
— Ой, только не брюзжи, умоляю.
И Вадим понял, что его раскусили, как гнилой орех.
В ресторане Бабахина знали. Принимая чаевые, гардеробщик привычно согнулся:
— Девочку?
— Нет, сегодня я с приятелем.
Делая заказ, Бабахин шиковал.
— Это всё коммуняки проклятые! — бил он себя в грудь после третьей рюмки. — Зажимали, не давали хода. Ну, ничего, теперь заживём!
«Так ты и раньше жил», — подумал Вадим, вспоминая, как Бабахин писал заявление в компартию и как злился, когда ему отказали.
Бабахин неожиданно опьянел.
— Эх, Вадька, ты же умный был, а дальше носа не видишь! И охота тебе прозябать? Не майся дурью, иди ко мне.
— А что делать?
— Да какая разница!
И Вадим понял, что однокашнику будет приятно каждый день бросать ему кость, как недавно — гардеробщику.
— Кузьма Аполлинарьевич умер, — тихо сообщил он. И вспомнил, как в последний раз ездил на дачу — бедный, грубо струганный гроб, соседские старухи, похожие на черневших по соснам ворон.
— Жаль старика, — мотнул головой Бабахин. И, ставя обратно рюмку, передёрнул плечами: — Время всех похоронит, но каждого — в свою могилу…
За бортом страшно перекатывали валы, кричали чайки, хватая глупую рыбу, дрались, роняя перья. А в кают-компании кипели страсти.
— Русский человек без идеи не может, — визгливой скороговоркой выпалил петербургский адвокат. — Капиталец нажил — а что дальше? Спиться? Это бюргер может в садике копаться да пиво колбасками заедать. А наш от тоски либо повесится, либо в разбойники пойдёт. Я таких много в суде перевидал — с жиру бесились… Нет, Россия без подвига — мертва!
— Помилуйте, какой там подвиг, — возмущённо сипел провинциальный доктор, — в деревнях голодают, тиф, беспризорных — тьма…
— А я о чём? Без идеи всегда так будет. Неровно мы к ближнему дышим — либо вместе на пулемёт, либо — в харю, да карманы обчистить! Народ у нас больно бойкий, у него порох ещё не вышел…
— Палка — и вся идея! — встрял штабс-капитан.
— А это непременно-с… Без неё мерзавцы, как тараканы, повылезают.
Тимофей вышел на палубу. Ветер швырял солёные брызги, которые, не успевая стекать, испарялись, обжигая лицо. От качки Тимофей держался за поручень и, глядя на волны, думал, что есть какая-то высшая справедливость в том, что они плывут сейчас за тридевять земель, выброшенные, раздавленные.
«Горек наш плод, — вспоминал он Аполлинария Кузьмича, — как волчцы…»
Бабахин опять пригласил обедать. И Вадим понял, как ему одиноко. А ему было одиноко с Бабахиным.
Редкий дождь долбил крышу крупными, как лошадиные зубы, каплями. Сидели за тем же столиком, и Бабахин также быстро набрался. А у Вадима вертелся вопрос про Полину. Он сцепил зубы, но Бабахин оказался проницательным. «Мы развелись», — равнодушно бросил он. И, не удержавшись, усмехнулся: «После суда я уволил адвоката, а она перестала в чём-либо нуждаться». Он как будто протрезвел, уставившись мутными глазами в угол. «Но главное — дочь осталась у неё. Маленькая — ангел была, для неё жил. А выросла в мать — вертихвостка, одни тряпки на уме. Отчего так, Вадик, — кажется, до счастья рукой подать, а вытянешь — его и в помине нет?» И, не дожидаясь, отмахнулся: «Эх, было давно — быльём поросло…»
На мгновенье в нём промелькнуло что-то жалкое, почти старческое, на лбу проступили глубокие морщины, будто туда перебежали шрамы с сердца.
Разговор не клеился.
«В жизни всё так, — недовольно буркнул Бабахин, протягивая руку, — хочешь поговорить по душам, а выходит — о деньгах, думаешь помянуть прошлое, а за твой счёт норовят устроить будущее».
Он нехорошо покосился.
«Полагаешь, святой, а сам трус», — прочитал Вадим во взгляде, который уносил, точно ежа за пазухой.
Вадим перекручивал простыни и видел покойную мать. Во сне она была старше тех лет, когда умерла, словно все эти годы жила где-то рядом. Скрестив ноги, мать сидела на камне в нищенских лохмотьях, с узловатой палкой. Вадим склонил голову ей на колени, и она, как в детстве, гладила её шершавой ладонью.
— Как жить, мама? — всхлипывал Вадим. — Посмотри, кругом все одинаковые! Им ничего не нужно, совсем ничего. Одним днём живут — и мысли, и книги.
— А ты своим умом живи — на других не оборачивайся. Там, — она задрала клюку в небо, — каждый за себя ответит.
— Да как же это возможно? — вздохнул Вадим. — Я и так один остался, видишь — с ума схожу.
— А всё потому — оскалилась вдруг мать, отталкивая его, — что ты недостаточно умён!
Вадим вскинул бровь.
— Ты образован, — с хохотом упёрла она клюку ему в грудь, — но не выучил главного: ум надо скрывать, как порок или деньги.
Во сне Вадим заскрипел зубами, но — тихо, словно смирившись с болью.
А потом они будто поменялись местами.
— Ничего, мама, переживём, — успокаивал он.
— Ты — нет! Разве можно пережить апокалипсис?
И, скрываясь за поворотом, разбудила эхо:
— Но представь, кем будут его пережившие…
Вадим открыл глаза. Наступал ещё один день, в котором он будет как разведчик на вражеской территории.
«На земле все эмигранты, — утешал он себя. — Однако лучше топтать свою землю, чем лежать в чужой». Но он лукавил — ему некуда было бежать. Только в свои книги. А там за семь морей уплывал на пароходе Тимофей Закрутня.
Гостиница была сырой, и гудевшие в темноте комары кусали через простыни. Степан Доброскок, старший поверенный в делах промышленной компании, не привык к таким. «Всего одна ночь», — мелкими глотками запивал он снотворное. Но ещё долго перекручивал простыни, точно пытался завернуть в них разбегавшиеся мысли.
День выдался трудным. Вместе с помощником Доброскок прилетел в провинциальную дыру, чтобы сократить две сотни рабочих. Он долго объяснял им, почему закрывают дело и за бесценок распродают акции, для наглядности рисовал графики, которые сопровождал колонками цифр. Его речь погрузила городок в траур. Доброскок не любил подобные поручения, но в столице у него остались маленькие дети и сердечница-жена. «Жизнь без денег, что насморк без чиха — зуд есть, а унять нечем», — повторял в самолёте помощник с глазами, как сохнувшие лужи, — они всегда были на мокром месте, но никогда не плакали.
На собрании Доброскок ждал возмущения, но рабочие угрюмо молчали. И только один, криво усмехаясь, бормотал что-то под нос. Глядя на вытянутое нерусское лицо: впалые щёки, заострённый, с горбинкой, нос — Доброскок про себя отметил, что он приезжий.
«И каким ветром тебя занесло?» — подумал Доброскок, спускаясь с трибуны. Он повсюду натыкался на колючие взгляды, которые сверлили ему спину, но Доброскоку было всё равно. Дорогой в гостиницу он представлял, как доложит о командировке начальству, как встретят его дома, и тихо улыбался…
Гость вошёл без стука, шаркнув ботинками, по-собачьи вытер ноги о половик.
— Столько дел, столько дел! — затараторил он, громоздясь на трёхногий стул. — Просто голова кругом… — Подоткнув под себя чёрный плащ, поставил рядом зонтик, с которого капало. — И дождя вроде нет, а вот на тебе — зацепило!
Доброскок не испугался.
— А ведь я тебя знаю, — вспомнил он давешнего рабочего, приподнимаясь на подушке. — Пришёл, верно, за место хлопотать?
— Так и я вас знаю, Степан Андреевич, — ухмыльнулся гость. — С самого вашего рождения… А за место чего хлопотать — его на всех хватит!
Достав чётки из вишнёвых косточек, он стал медленно перебирать их.