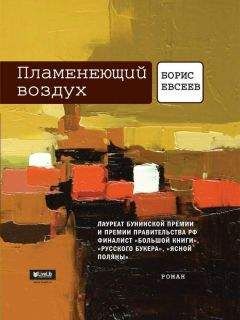Однако ни мысли собственные, ни даже замечания государыни Екатерины не затеняли для Эрнеста Ванжуры главного. Главным же был тайный наказ: успехам Фомина не способствовать, наоборот, мешать, горой за него перед императрицей не стоять, а подогревать в ней (по отношению к Фомину) то, к чему она и сама явно склонялась.
Еще третьего дня было Ванжуре сделано о том наказе напоминание. Вызвал его из театру какой-то иностранец: бледно-пылающий, едва не брызжущий искрами, с перебитым дважды — и посередке и ближе к кончику — и от сих перебитостей торчащим вбок носом. Иностранец говорил на ученой латыни (видно, остерегаясь обретавшегося недалече соглядатая), но Ванжура понял его хорошо. Личная неприязнь к псевдо-академику Фомину обретала дополнительный и убийственный вес: был сей Фомин нелюбим могучим и по мановению руки императрицы расправляющим широкие крылья в России орденом Иисуса!..
По-иному (узнав про «Ямщиков») повел себя князь Шаховской — драматург и любитель древностей. Тот скрытничать и не думал, а сразу впал в ярость.
Какие-то умники, не спросясь его, затеяли неслыханное дело! Комическу оперу, да еще на необыкновенным музыкальным материале, собрались представить. Но ведь князюшка сам о таком деле давно мечтал!
Недовольствовали и ярились не только Шаховской и Ванжура.
Много крови попортили Фомину те, кто вроде бы ему сочувствовал.
Первым, как та лисица-аптекарь из школярской пиэсы, чуть повыпустив коготки, отворил Евстигнеюшке кровь остроносый Сарти — придворный скрипач, сочинитель слащаво-помпезных гимнов. Сарти был близок к светлейшему князю Потемкину, собирался с ним на юг, в Таврическую губернию. Мог себе многое позволить.
— Псст... Груба и недостойна вашего образования нынешняя задумка. Уж вы мне поверьте, синьор Фомини! Вы способны сочинять много, много интересней! Падре Мартини — тому ли учил вас в славной Болонье?
— И этому тоже учил. Падре Мартини — он ведь весьма одобрительно к простонародным песням относился.
— Так то — песни италианские: неаполитанские, сицилийские... Пусть даже — как это у вас говорят: на худой кончик — тирольские. В тех песнях солнце и страсть, они есть преклонение пред девой Марией и святым престолом...
— Эк, куда тебя повело. Да в русских песнях тоже много похожего есть. К тому же, слыхивал падре Мартини и русские песни.
— Si? Diavolo! Я бы с радостью в это поверил, когда бы это не было сущим враньем!..
— Сам врешь, — шептал вслед уходящему Сарти Фомин. Были и иные насмешники острые. Были тяжелодумы, слов не говорящие, токмо глазами сверлящие.
Дальше — больше. Палки в колеса стали вставлять даже те, от кого ждать этого никак не приходилось.
Некто С. стал распространять слухи: не сам Фомин оперу сочинил — потому как никаких опер сочинять сей безмозглый пушкарский сын не умеет, — а это просто Николай Александрович Львов (муж достойный, муж многоумный) решил в музыкальных сочинениях поупражняться.
Однако слухи — мимо! Другое навалилось да и вышло боком.
На первое представление «Ямщиков» ни государыню императрицу, ни высоких вельмож не ждали. Ожидалась публика попроще.
Простая публика и пришла. Музыки попроще и захотела. Захотела смеха простого и ясного: с кашлем и навзрыд, с табаком и хмельком возжелала!
И поначалу отношения публики с новой оперой складывалась недурственно.
Филька Пролаза смешил. Ямщик Тимофей печалил. Народные песни (а иногда песни, наново в духе народном сочиненные и по-европейски обработанные) вышибали то слезу:
Не у батюшки соловей поет,
Молодой ямщик на заре бежит... —
то, опять-таки, смех. Особенно смешным вышло трио, каковое, спотыкаясь на каждом шагу, вели пьяный кучер, угольщик Вахруш и Тимофей, хитрованом Филькой подпоенный:
К-кабы я была пташка,
К... к... кабы я перепелка...
Вскоре, однако, в опере что-то сломалось. Песня сменяла песню, в свой черед возникали хоры и ансамбли. Мелодии, под стать частым сменам, также были весьма различны: протяжные, задумчивые, разухабистые.
К такому обилию песен в комической опере (еще не вполне отделившейся от драматического спектакля) привычки не было. Без ругани, драк, колких разговоров — интересу не возникало. И хотя смеялся Филька, а в оркестре, подражая балалайке, смешно побулькивала скрипочка, по залу стала растекаться тяжковатая скука.
«Скука — сука? Или: сука — скука?.. — думал невпопад, думал поперек уплывающей из рук оперы Фомин. — Да, так! Не Европа ведь, не Италия… Нет того, чтобы охватить все целиком. Нам чего надо? Нам подавай епизод, случай. Чтоб старика — палкой по голове, а девку — в кусты... И чтоб офицер на шпагу, как на вертел, враз по десятку басурман наверчивал. Уж тогда будут довольны...»
А тут еще забунтовали актеры на сцене: забунтовали нагло, зло.
К Львову актерская братия относилась с почтением. Чтили его за многое. В первую голову за дружбу с актером Дмитревским. Но этот-то болботун, этот! Хорош гусь, неча сказать. Измаял песнями, да еще всякой иной музыкальной дребеденью доконать хочет. Он у нас сию премьеру попомнит!
В паузе, предусмотренной на сцене для разговору, дрянной актеришко Сашка Летягин обратился — что уже входило в обычай — напрямую к публике.
Высоко подняв лежавший на сцене (для придания действию достоверности) хомут, только час назад опохмелившийся Сашка, давясь от смеха, вопросил громогласно:
— А почтеннейшая публика! А кому бы сей хомут был впору?
В райке злобновато хихикнули. Чуть погодя кто-то проорал во всю глотку:
— Автору! Автору сей хомут впору!
Капельмейстер дрогнул. Музыка споткнулась и дальше уж побежала слегка прихрамывая.
Прошумела в оркестре чудная «Во поле береза бушевала».
Пропели всеми любимую: «Молодка, солдатка полковая...».
Прозвучал необыкновенный марш, и свершилось чудо: ямщик Тимофей соединился с невестой. И проезжий офицер сему ничуть не препятствовал, даже намекал глухо: так и только так дела в Российской империи улаживаться ныне будут. По слову матушки государыни (каковая все на сцене происходящее давным-давно прозрела). И по наивысшей — никогда и нигде ранее не имевшей места — справедливости!..
Однако ни все это, ни даже проникновенный хоровой финал со словами: «Вы раздайтесь, расступитесь...» — спасти оперу уже не могли.
Лишенная связной драматургии, как та мастеровитая, но все ж таки сбитая из отдельных дощечек, а не сработанная из единого куска лодка, опера стала разламываться на части, пошла ко дну.
Простонародные разговоры — длинноватые, недопеченные — словно бы продолжали висеть над сценой: да не веревкой, удавкой...
— Коль хомут на шее — так скачи отсэда скорее!..
— У-я!
— А-а-а...
Раек бушевал. Партер недовольствовал. Первая русская хоровая опера была благополучно провалена.
И вроде без особых на то резонов.
Впрочем, кой-какие резоны все ж таки имелись.
Князь Шаховской, во время представления скрытно ликовавший в ложе, на другой день записал хоть и со злорадством, но и с похвальной точностию:
«Один очень умный и просвещенный человек сделал оперку: “Емщик на подставе”. Природный ум автора как-то не пришелся на сцене, может, за недостатком воображения».
А еще через день в одном из питерских известных наклонностью к склокам и пересмешничеству салонов князь уже вслух добавил:
— Емщики-то на подставе не удержались! Бедолага автор. «За свой труд — попал в хомут». Ну, видно, по грехам и слава!
Случилась в те дни еще одна мелкая незадача: оскорбленный неуспехом «Ямщиков» Филька Щугорев, тайком пробравшийся в раек и враз узнавший себя в Фильке Пролазе, — сбежал в Новороссию. О чем, через знакомого лакея, барину с полуиздевкой и сообщил.
Глава тридцать первая Тамбов
По грехам слава. По ним...
Грехи и вправду были. И первый из них — безлюбие, безбрачье.
Верней, любовь-то, как раз, была. Но давняя и лишь в уме представляемая, сильно мешающая любви простой, всамделишней, каковую можно во всякое время рукой ощупать, словечком приласкать!
Никак не умел Евстигнеюшка найти себе подходящую пару. Уж и так, и этак ловчился, а без толку. Все любовные усилия поглощала музыка. Как тот библейский Левиафан, пожирала музыка все вокруг! Именно ее, музыку, ее, невидимую миру красавицу, вносил он на руках в смиренную питерскую квартеру, одевал в небывалые одежды, украшал, охорашивал...
Второй грех — сомненья.
Множество крупных и мелких сомнений шатали и по временам таки ушатывали Евстигнееву душу.
Нужна ли тут, в России, на европейский манер сочиненная, однако при всем том без сомненья своя, природная, музыка?