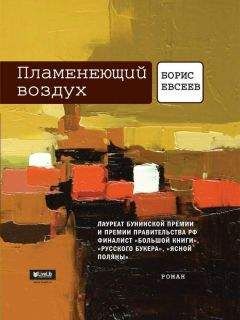Сие было неясно.
А новые обширные российские территории, точно ль они нужны?
Опять же: до конца непонятно.
Даже и в том, что рука Всевышнего все в жизни российской, как оно и предопределено, устраивает, — пусть и крохотные сомненьица, а имелись!..
От сомнений — снова к грехам: третий грешок (глубоко таимый, страшно терзающий) состоял в нежелании всем и вслепую подчиняться, перед кем-то — пусть высшим и главным — преклоняться.
Что придворные музыканты, что актерки, что проезжающие мимо вельможи, что сам Петербургский градоначальник — трепета души и сгибания тела производили в Евстигнеюшке все меньше и меньше. Виной ли тому воспоминания об Италии, виной ли быстрый переход из низкого звания в «Филармондские академики» — было, опять же, не понять!..
Ну да ведь не грехи, в конечном счете, загубили премьеру «Ямщиков»!
Загубило — незнанье и неуменье многих людей, в премьере участвовавших.
Верно и то, что «природный ум автора как-то не пришелся на сцене».
В этом князюшкином, передававшемся из уст в уста, речевом обороте было ухвачено многое.
«Так, правда! Не для сцены “Ямщики” сработаны! Для салонной игры, для услаждения слуха подготовленного сочинялись они», — корил Евстигней себя, укорял косвенно и Николая Александровича Львова.
Надо было что-то менять. И уж коли самого себя враз поменять нельзя, следовало изменить условия существования. Иначе пропадешь ни за грош!
Тут и подоспел Гаврила свет Романович, со своим — переданным через верного человека — призывом, даже скорей наказом: в Тамбов!
Державину Евстигнеюшка был представлен совсем недавно. И при обстоятельствах не вполне обычных.
Сии обстоятельства были продолжением одного странного случая.
Года за полтора перед «тамбовским призывом-наказом» тогдашний губернатор Олонецкий Державин нежданно-негаданно объявился в Петербурге. При этом — ни с кем не видался, прятался даже от близких знакомых. Принимал тайно и весьма немногих.
Пряткам державинским предшествовало вот что.
В самом конце года 1785-го олонецкий губернатор, знаменитый стихотворец и действительный статский советник Державин испросил у своего прямого начальника наместника Тутолмина отпуск. Часть отпуска — как меж ними давно было говорено — Державину следовало провести в Олонецких уездах, примечая там все происходящее. Однако отправившись для осмотра губернии — губернатор внезапно исчез.
Искали да не нашли.
Первое ошеломление сменилось гневом наместника и радостными пересудами чиновников: сбежал наконец!
Однако ж нет, не сбежал! Растаял «словно сонная греза».
И было ведь отчего грезой такой растаять!
Ведь жизнь в Олонецком крае делалась для Гаврилы Романовича все несносней. Наместник — невежа. Родственники наместника — все сплошь мздоимцы. Чиновники — казнокрады. Да и картежные пьяницы к тому ж.
А тут еще недавняя история с Михайлой Ивановичем Медведевым.
Случилось так.
Некий чиновник Н., человечишко не весьма ровный (хоть и отставной поручик, а взглядов неясных!), как-то раннею весной, выйдя из дому, направился в должность. Должность его была судебная.
Утро свежее, в голове туман, начальники в отсутствии.
Глядь — за оградою губернаторского дворца медведь. Ручной, отставному поручику весьма и весьма известный. Мишка ластится, просит сладкого, видать, только что из спячки выдряпался.
— А что, Михайло Иваныч? А не сходить ли и тебе в присутствие? Вместо меня там и сел бы. Понимаю-с. Дороги не знаешь. Тогда вот что: следом за мною, шагом ар-рш!
Тут же калитка в ограде была поручиком отворена, медведь — даже и не медведь, а так себе, медвежонок — команду послушно исполнил: на всех на четырех лапах кинулся за человеком в суд.
Город мал, идти недолго.
Войдя в судебное присутствие, Н. сдуру возьми да брякни:
— Ваша честь, господин отсутствующий председатель! И вы, господа заседатели! Прошу почтить вставанием!.. Новый член Судебной палаты Михайло Иванович Медведев из сибирских лесов к нам пожаловал!
Тут мишка морду свою из-за спины отставного возьми да и покажи...
Как на грех, один из заседателей оказался припадочным: сразу грохнулся оземь. Другой, ухватив неизвестно для какой надобности хранившийся в суде рогач для выемки горшков из печи, стал медведя рогачом тем гнать.
Мишка упирался, уходить не желал. Хватал со столов бумаги. Жевал принадлежности. Словом, требовал внимания и почета...
Сия буффонада отставного поручика дорого встала Державину!
Губернатор Тутолмин, равно как и брат его двоюродный — председатель суда, — вернувшись из отпусков, увидали в произошедшем аллегорию и намек. Дескать, это умник Державин подучил мишку руку к бумагам прикладывать. Ко всему еще наплели Тутолмину, будто бы кричал охмелевший от безначалия поручик изгнанному мишке вслед:
— Гляньте сюда вы все! Михайло-то свет Иваныч все ж поменьше нашего председателя на лапу берет! Да приметьте еще: рогач сам по себе в суде у нас скачет! А ну как сей рогач волшебный бока вам всем обломает?
Скандалез набирал сил. Державин жаловался канцлеру Безбородке:
«От сих нелепых привязок у меня голова вскружилась... Только и знаю, что делаю отражения, не выходя, впротчем, из пристойности... Изведите из темницы душу мою!»
Сиятельный Безбородко мог многое. Однако изведением державинской души из темниц губернаторства заниматься не стал. Может, потому, что сам по себе скачущий в суде рогач вызвал у канцлера дурные чувства и великое ко всем олонецким делам отвращение.
Отношения с наместником Тутолминым были Державиным испорчены безнадежно. Жалобы и доносы на неуемного стихотворца потекли в Петербург неостановимой весеннею рекой.
Словом, куда ни кинь — везде клин!
Ввиду всего означенного, тайно покинув должность, Гаврила Романович в Петербурге и затаился. Ну а переждав неизбежные при таком бегстве правительственные грозы, стал искать нового губернаторства.
Поиски увенчались успехом.
Уже в марте 1786 года был Державин назначен тамбовским губернатором. Но служба службой, однако ж и «сонною грезой исчезать» Гавриле Романычу понравилось.
В начале 1787-го он ненадолго, и опять-таки тайно, прибыл в Петербург. Визитов снова-таки не делал: думал, сочинял. Изредка вел разговоры с тремя-четырьмя близкими людьми. В числе близких был и Николай Александрович Львов.
Во время краткого пребывания Гаврилы Романовича в Петербурге Фомин ему и был Николаем Александровичем представлен. И не просто представлен. Выпала Евстигнеюшке редкая удача: сказать нечто об русских операх и вообще об имеющей появиться при конце века осьмнадцатого музыке.
Разговор поначалу не складывался.
Сперва не понял собеседника Державин. Вслед за тем обиделся на непонимание Фомин. Правда, Гаврила Романыч тут же и рассмеялся, а угрюмый Фомин перестал на его высокопревосходительство дуться.
После нескольких — с участием Николая Александровича Львова — разговоров оба почувствовали взаимное расположение, сблизились сердечно.
Впрочем, о чувствах не объявляли. Державин чувств своих показывать не мог. Фомин — не смел. Да и какие чувства у губернатора к музыкантишке без протекции? И сообразно тому: какие чувства у безместного искателя славы к всесильному губернатору?
В феврале 1787-го тамбовский губернатор снова — и едва ли не все той же сонною грезой — был унесен по снегам к месту постоянного пребыванья. Ну а в марте был зван в Тамбов Евстигней Фомин.
Тамбов встретил тишиной, мертвенным, но и сладким покоем. Весенняя грязь была кое-где присыпана вновь выпавшим снежком, как сахаром. Предвечерний город, лежавший в небольшой котловине на берегу Цны, казалось, сладко спал.
Сонливостью и покоем Тамбов Фомину и понравился. После громыханья питерских улиц, после трактирного лая и едкого насмешничества театральных спектаторов — от Тамбова веяло духом приличия и отдохновений.
Вывалившись из возка, меся полугрязь-полуснег, кинулся Фомин в губернаторский дворец.
Державин принял сдержанно. Мог бы и вовсе не принять — был в тот вечер сильно не в духе, — кабы не записка от Николая Александровича Львова.
— Уж я наслышан о твоих подвигах! Как же-с. Князь Шаховской раструбил повсеместно, как ты преогромнейший «хомут» на шею свою примерил. Можешь и не отвечать ничего, потому как сам кругом виноват.
— Виноват, ваше высокопревосходительство.
— Да не зови ты меня «превосходительством»! Довольно с меня и Гаврилы Романыча. Я тебе — пугало чиновничье?.. Впротчем... Я тебе другое втолковать хочу. Про оперу. Ну? Нешто не понимаешь? Слов подходящих в твоей опере не оказалось. Сюжетцу настоящего не было! Кто только сюжетец тебе и мастерил? Неужто Николай Александрович так постарался? Уж он бы мог, кажись, и получше...