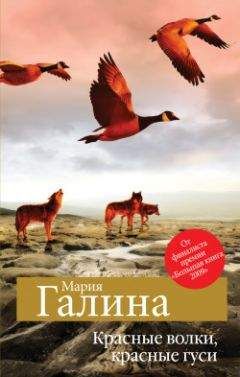Она сделала непроизвольное движение рукой – то ли приглашение войти, то ли требование удалиться, но человек под фонарем не пошевелился, опустив голову, он продолжал неподвижно стоять под мелкой моросью, сыпавшейся с обездоленных небес.
– Кто там? – спросил у нее за спиной Рюша.
– Никого.
Она опустила занавеску.
* * *
– Это зависит, – сказал антиквар, – от многих причин. Дело не в материалах, дело в клейме. В работе. Если вещь действительно старинная, как вы говорите…
– Да, – сказала она, – старинная.
– Все равно, если нет клейма фирмы, вам много не дадут. Прилично – да, но не много…
– А если – Фаберже?
– Тогда другое дело… Но как я могу точно сказать – не посмотрев… вы же понимаете?
– Да, – отозвалась она, – да, понимаю.
В разрывах облаков проглядывала синева – такая яркая, что почему-то было неприятно на эту синеву смотреть. Она шла – сумка оттягивала руку – и все время воровато оборачивалась: не преследует ли, догоняя, убыстряя шаг, темная фигура в просторном плаще.
Нет… подумала она… нет… показалось…
– А ты неважно выглядишь. – Ираида поглядела оценивающим взглядом. В манере поворачивать голову было что-то птичье, и косточки тоже были птичьими, суставы запястий, казалось, грозились вот-вот пропороть сухую кожу. – В твоем возрасте… в четырех стенах…
Лучше бы это сказала своему сыну, подумала она. Мне-то что толку.
– Женщине нужно уметь себя занять… и не распускаться. Для мужчины важно, чтобы жена всегда оставалась привлекательной, ты меня понимаешь? Картошку принесла?
– Да. – Она вынула из сумки тяжелый пакет.
– Творог?
Ираида близоруко прищурилась, разглядывая дату на упаковке.
– Рюша говорил, ваша мама была красавицей, – сказала неожиданно для себя.
– Да, – сказала Ираида, – да, красавицей… на улицах вслед оборачивались, сама помню. Веселая была, смешливая – бокал с шампанским, а не женщина. Птичка божия. Всегда тянуло прислониться к кому-нибудь понадежней – вот и прислонилась. Тогда силу не прощали.
– А…
– Сильным быть страшно, милочка. Молния ударяет в высокие деревья. Вся семья ее… тоже не маленькие люди были, лауреаты. Да и отцовская родня… По каким курортам ездили! Отчим икрой черной кормил, с ложечки! А что осталось? Ничего!
– Как – ничего? – машинально переспросила она.
Ираида посмотрела из-под тяжелых век. Взгляд тоже птичий – острый, холодный.
– Ничего, – с расстановкой повторила она. – Ты в следующий раз, когда творог покупать будешь, смотри на дату выпуска. Печень у меня, сама знаешь. И Рюшу только свежим корми – говорят, это передается.
Стерва, подумала, старая стерва. Сильных ты боишься – вот и держишься за слабых. А они что, лучше?
А вслух сказала:
– Ладно.
* * *
– Была у мамы? – Рюша с наслаждением потянулся в неудобном кресле.
Молча кивнула.
– Как она?
– Как всегда. Прихрамывает немного. Но не жалуется.
– Никогда не жалуется, – согласился Рюша, – удивительная женщина! Железная! Думаешь, почему такой артрит? Все от машинки, от пишущей. Когда отца похоронила, работу на дом стала брать. Рукописи все эти… горы рукописей.
– Думаешь, это хорошо, – вскинулась она, – быть железной? Стоило так надрываться? Ну зачем ей эта ящерица, скажи на милость? В ее-то годы? Ведь могла бы на эти деньги в санаторий съездить… хоть круглый год там жить – а что? Очень даже!
– Мама, – сказал Рюша, – уже все потеряла. И не один раз – дважды. Дом. Семью. С тех пор она старалась… не вкладывать слишком много души… ни во что. Всегда держать что-то про запас. На крайний случай.
– То-то я смотрю, не очень-то она по твоему папе убивается!
– Оставь маму в покое! – сердито проговорил Рюша.
– Ладно… Рюша, а ты… ведь сын – не может же она не любить собственного сына? Понимаю – я человек посторонний, невестка, но ты-то! Ведь и ради тебя пальцем пошевельнуть не желает…
Губы у Рюши чуть заметно дрогнули.
– Хватит, – сказал он. – Сказано, хватит!
– Мои-то в их годы каждую неделю к поезду таскаются – посылочки, передачки – а у самих только и есть, что давление под двести и три сотки в пригороде! А с Ираиды Евгеньевны папа твой безответный всю жизнь пылинки сдувал…
Рюша уже открыл рот, пытаясь что-то сказать – при этом сделался на удивление похож на обиженного карася, – но она уже схватила мусорное ведро, выскочила на лестничную клетку, хлопнув входной дверью.
Бедный Рюша, подумала с великодушием победителя, отлично знает, что матушка его дражайшая не слишком-то к нему привязана. И никогда не была. А признаться стыдно – как же так, мать родная… вот и мучается.
Он стоял на площадке, возле полуразбитого окна.
Она даже отшатнулась от неожиданности – темная тень пересекла кафельный пол и упала у ног, когда Он пошевелился.
– Ты… давно тут стоишь? – прошептала.
Он не ответил. Твердыми пальцами взял ее за подбородок, взглянул в глаза.
– Что с тобой? – спросил, – Ты плакала?
Она тут же поняла, что точно, плакала или, во всяком случае, готова была заплакать и сейчас, сквозь подступившие слезы, улыбаясь, проговорила:
– Нет.
– Ну, все, – сказал Он сухо, – хватит. Пойдем отсюда!
Вздрогнула.
– Прямо… сейчас?
– Да! Сейчас, немедленно! Почему нет?
Потому что мне его жалко, подумала она. Потому что я до сих пор не знаю, где ты живешь… Да мало ли, почему.
Обнял так, что она задохнулась. Площадка, провонявшая кошками, показалась лестницей в рай, увитой плющом.
Все сразу стало, как надо. Господи, подумала, только бы это длилось… ну, пожалуйста, ну еще немножко!
– Я увезу тебя, – сказал Он. – Очень скоро. Потерпи немного, ладно?
Всхлипнула, утерла слезы, сказала:
– Ладно. А сейчас – уходи!
– Ты не будешь больше плакать? Обещаешь?
– Да, – сказала она, – да. Обещаю.
* * *
– Что так долго? – спросил Рюша.
– Да так, Нину Игнатьевну встретила.
Рюша сидел, обиженно поджав губы.
– Вот ты тут на маму наговаривала, а она как раз звонила.
– Ну и что? – устало спросила она.
– А то, что она решила продать ящерицу. Сама решила, понимаешь?
– Вот это да! Ни с того ни с сего? Кто это, интересно, в лесу сдох?
– Попросила меня продать… обратить в твердую валюту, так сказать… отдает нам треть.
– Почему треть?
– Она хочет на черный день, – пояснил Рюша. – Может, нам же и… мало ли…
– Дорого яичко ко Христову дню.
– Опять ты недовольна, – сокрушенно сказал Рюша, – ну почему ты всегда недовольна?
Ей даже жаль стало невиданную безделушку – легенда уйдет, останутся лишь деньги… а это уже совсем другое дело.
– Она говорит, – продолжал тем временем Рюша, – не в могилу же с собой тащить. Потом… ты знаешь, заинька, маме показалось, что за ней следят.
– Как следят?
– Мама, она, конечно… любит приукрасить… но она уверяет, что у дома все время толчется один и тот же человек… как раз под ее окнами. Ей неспокойно, понимаешь.
– Может, пускай вызовет оценщика к себе?
– Откуда же она будет знать, что это именно тот оценщик? Не самозванец какой-нибудь? А я ее тихонько отнесу в антикварный, ящерку, – все же надежней, чем случайного покупателя искать.
– А не обманут?
– Так и индивидуалы же обманут! И потом – ищи их. А антикварный вот он, на месте.
– Столько денег, – задумчиво сказала она.
– Да, – вздохнул Рюша, – я думаю, мы никогда и в руках не держали такую сумму… хотя, может быть… мама все-таки немножко преувеличила ее ценность, так что давай не будем излишне обольщаться, а?
– Но мы хотя бы сможем съездить куда-нибудь? К морю, мир посмотреть, как белые люди?
– Не знаю, заинька. Мне кажется, нужно отложить на черный день, квартиру в порядок привести. А так – потратим, что останется?
– Память, – сказала она, – жизнь.
– Но вот это все и есть – жизнь. Погоди, выбьем под проект, тогда и заживем. Это, знаешь, не маленькие деньги! Они в соседнем отделе то и дело порхают в Париж… или не в Париж, ну все равно…
– Ну, давай не будем мелочиться! Раз в жизни позволим себе хоть что-то, Рюша, ну пожалуйста!
– Ну что с тобой сделаешь? – сказал Рюша.
* * *
Глянцевый проспект был просто невероятно яркий – таких красок в жизни не бывает. Или все же бывают? Невесомые белые здания спускались уступами к морю, волны переливались пурпуром и синевой, точно грудка голубя, а кроны олив ходили под ветром, точно серебряные волны. Ночные огни ресторанов, фонарики в кронах, огоньки судов на рейде – лучшие в мире драгоценности, игрушки великанов, слишком великолепные, чтобы принадлежать смертному.
И надо всем, как облако, плывет неспешное время…
Рюша в новом костюме выглядит на редкость импозантно. И держится с таким достоинством – вот что значит хоть на какой-то миг почувствовать себя хозяином жизни. Сама она в чем-то невесомом, кремовом, оттеняющем блеск загорелой кожи…