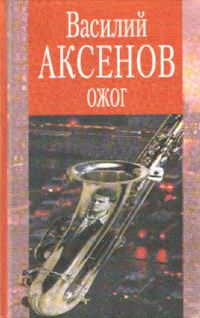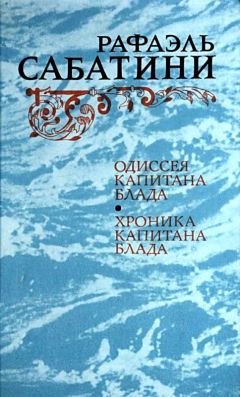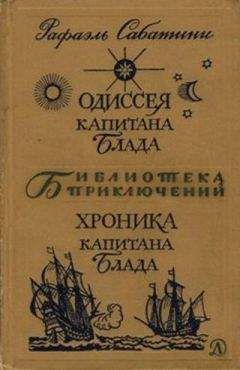– Дходзуашвили Автандил Тариелович…
– Пятнадцать суток!
– Давинчи Леопольд Леонардович…
– Пятнадцать суток!
– Махнович Спартак, отчества не помнит…
– Пятнадцать суток!
Отщелкав таким образом восемь подопечных сержанта Абакумова, судья раздраженно засопела, потребовала воды. мыла, зубной пасты. Кто-то из новеньких зеков держал тазик, пока она производила свой утренний туалет, прочищала уши, просвистывала ноздри, подмазывала губы липстиком «Огни Москвы». Потом из просаленной газетки извлечен был бутерброд с яйцами. Брезгливое фырканье, занудливый басок:
– Проклятая баба, бутерброда не может сделать по-человечески. Никогда не женитесь, хлопцы!
Зал подхалимски захохотал, и мы трое, вольные рыцари Европы, тоже подхалимски захохотали – никогда не женимся, гражданин судья!
– Ну, Рюмин, давай-ка теперь ты своих подопечных, да живей-живей, работы у нас до вечера, а вечером у меня университет культуры, будь он неладен.
Плюгавенький сержант Рюмин подсунул судье папку и что-то горячо зашептал, показывая на нас глазами. Особый случай, улавливали мы, органы могут заинтересоваться, все с высшим образованием и полуевреи.
– Давай-давай, Рюмин, – досадливо поморщилось судья. – Чего попэрэд батьки в пэкло? Докладай!
Рюмин оскорбленно отстранился, нацепил на нос робеспьеровские очки и начал «докладать» с многозначительными нажимами в неопределенных местах:
– Мессершмитов Вольф Аполлинариевич, одна тысяча девятьсот тридцать второго года рождения, доктор ракетно-ядерных наук…
Я уже стоял навытяжку – отчество-то было доложено мое, и, значит, речь в действительности шла обо мне.
– …в пьяном виде торговал военными секретами на борту туристского лайнера «Конституция». Будучи задержанным, извергал тошноту в акваторию Ялтинского порта, целовал и бил работников народной дружины, оскорбляя их словом «опричники»…
– Пятнадцать суток, – зевнул судья и перевернул страницу альманаха «Подвиг». – Старайся покороче, Рюмин. Краткость – сестра таланта. Следующий.
– Бриллиант-Грюнов Александр Македонович, профессор германской филологии Сыктывкарского университета…
Алик Неяркий вскочил, едва покосившись на нас смущенным глазом – что, мол, поделаешь, профессором заделали, без меня меня женили.
– …приставал к прохожим, залепляя им рты ресторанным салатом, вынутым из карманов, пел песни Галича и Высоцкого, содержание которых…
– Пятнадцать суток, – задумчиво произнесло судья. Пальцы его вновь вели жадный поиск в складках лица.
– Однако я не кончил, товарищ майор юстиции, – поднял вдруг возмущенный дискант сержант Рюмин. – Преступление Бриллиант-Грюнова еще не доложено.
– Что-что-что? – Судья даже забыла о заманчивых угорьках и выехала вперед всей своей физиономией. – Опять за старые делишки, Рюмин? Мало тебе высшей меры? Смотри, доиграешься со своей самодеятельностью! Садитесь, Бриллиант-Грюнов, и не волнуйтесь. К прошлому возврата нет!
– Спасибо, – всхлипнул растроганный Алик Неяркий и со стуком опустил на скамью все сто килограммов своих хоккейных мускулов.
Робеспьеровские очки отъехали на затылок, и сержант мигом пожух, сморщился, как печеное яблочко, захихикал тоненько и бессмысленно, прямо не сержант, а божий одуванчик.
– Патрик Перси Виллингтон, – взялся он за следующее дело. – Командир атомной подводной лодки, консультант НАТО, НАСА, ЦРУ и ФБР…
Тон был настолько смиренным, что слышалось другое:
– Петр Сергеевич Вилкин, водопроводчик домовой конторы…
– Ну? – набычился судья. Ох, видно, сидел у него в печенках этот энергичный Рюмин. – Дальше что?
– Все, товарищ майор.
– За что задержан?
– Ну… вообще задержан… – Рюмин вконец смешался, заерзал. – Может, и ошибочно задержан, товарищ майор… признаю ошибку, готов извиниться…
– Читайте протокол! – рявкнуло судья.
– Задержан за приставание к прохожим посредством цветов и денежных знаков, – пролепетал Рюмин.
– Правильно задержан, Рюмин! Молодец!
Судья захохотал, глядя, как оживает личико сержанта, с удовольствием чувствуя свою власть над этим существом.
– Он еще обнажался, товарищ майор! – радостно взвизгнул ободренный Рюмин.
– Обнажал, говоришь, половые органы?
– Так точно! То есть не совсем… Действовал в этом направлении.
– Протестую! – возопил вдруг Пат, вытянув вперед свой костлявый желтый перст. – Вот уже десять лет, как я отошел от эксгибиционизма! Клянусь, не вижу в нем ни малейшего смысла, сэр!
– Видал, Рюмин? – мотнула головой судья. – Сэром тыкает представителя закона! Это как у нас называется?
– Провокация! – Глаза сержанта начали белеть и вылезать из орбит.
– Ну, Рюмин, определи ему меру наказания, – прищурился судья.
– Вышка! – Рюмин затрепетал было от близости оргазма, но, заметив издевательскую улыбочку судьи, снова стал затухать, съеживаться. – Десятку и пять по рогам? Пять лет условно? Может, отпустим товарища Вилкина за недостатком улик?
– Неправильно, Рюмин, – снисходительно пробасило судья. – Пятнадцать суток полагается этому гражданину, и он их получит. Пятнадцать суток Виллингтону!
Сержант Рюмин, униженный и оскорбленный, отвернулся к стене и, не скрываясь, всхлипнул. Должно быть, в этот момент он потерял уже всякую надежду вернуться на блистательную вершину карательной власти из этой комнаты свекольного цвета, в которой скромный приморский город каждое утро творил свою унылую расправу.
Ну, а для нас наступили волшебные трагические минуты
– Да здравствует каторга! – воскликнул Патрик, когда нас вели на стрижку. – Каторга, джентльмены, вот кульминация бытия! Не надо быть философом, чтобы понять: голод есть высшая форма сытости, а рабство – доведенная до экстаза свобода! О ширь, о беспредельность порабощенного весеннего мира, ты пьянишь меня! Вы скажете, джентльмены, что я цитирую Пастернака, что я хочу примазаться к великому племени slaves, что затаился и с привычной норманнской тупостью жажду освобождения? Вздор! Скоро я постараюсь вам доказать, что я достойный каторжанин, что я готов до конца своих дней перемалывать цинготными челюстями скудный, но обязательный хлеб неволи, терпеливо и даже с благодарностью сносить побои моих добрых хозяев, спать от звонка до звонка, извергать содержимое кишок строго по расписанию, и я готов призвать в свидетели всех зеков Нила, Миссисипи и Колымы!
Изысканное оксфордское косноязычие не прерывалось и тогда, когда полуживой с похмелья парикмахер окатывал наши головы под ноль.
Скрипнула дверь подземного царства, полицеский голос прошелся сквознячком по свеженьким, еще немного робким в наготе макушечкам:
– Вилкин, с ведрами на раздачу!
Патрик схватил два ведра и, бодро улыбаясь, затрусил по коридору. Возле окошка раздачи уже толклись старосты других команд, но наш профессор оказался бойчее. Не прошло и пяти минут, как он примчался галопом назад с ведром огненной баланды и полуведром тухлой каши.
– Ну, чуваки, ложки в руки! Головы не вешать! Всюду жизнь! Вокруг Россия! Айда, поехали!
– Выходит, Патрик, ты у нас уже вроде староста?
– Зови меня для простоты Петей. Веселей, мальчики, впереди у нас большой трудовой день – выгрузка мясопродуктов, погрузка рыбопродуктов, шлифовка бочкотары и репетиция самодеятельности! Так что прохлаждаться не придется, ебаные мудаки, пиздорванцы блядские, трихомонадные хуесосы!
– Во дает, эстонец, во дает!
– За таким не заскучаешь!
– Арбайт махт фрай, геноссен!
Кривая улыбка солнца освещала ЮБК от Севастополя до Нового Света, а над горами, над Яйлой, нависли тучи радиоактивного свинца, поглотившие уже всю Европу. Все там осталось, все мое, все мои милые остались в тучах, и никого уже я не мог вспомнить.
Одинокая люлечка ржавой канатной дороги спускалась из туч к нашему последнему берегу, и мне показалось на миг, что в ней стоят, прижавшись друг к другу, близкие души – – лиса Алиса и пес Тоб из Страны Дураков, но люлечка не доплыла до нас и, сделав круг в тумане, в прозрачной сырости, вновь ушла в темноту, чтобы больше уже не вернуться.
Солнышко отражалось в зябких лужах на последнем берегу и в головах грешников, административных зеков, вычищенных тупой бритвой милицейского парикмахера, но не грело оно, ах, не грело ясно солнышко, а было нам от него лишь колко и неуютно и даже гнусно, а бежать уже было некуда: жаркого солнца не осталось нигде, а облака с севера надвигались…
Боже, Боже мой! Гражданин начальник, позвольте на минуту выйти из строя? Вам поссать, Мессершмитов? Нет, мне в недавнее прошлое, в ту югославскую жаркую ночь, когда он, мой двойник, столь дерзкий и таинственный, лез по трубе в бельэтаж «Эксцельсиора», и на свежей романтической лунной стене оставались пятна от его алкогольного дыхания.