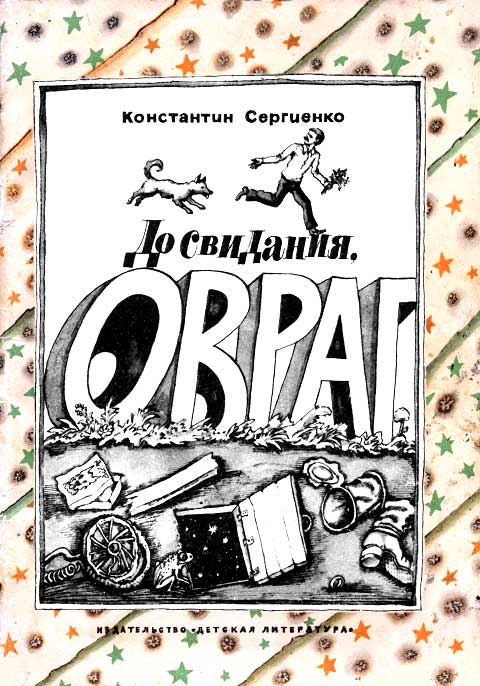Народу была тьма и очень много пьяных. С одной стороны на газоне были разбиты палатки с аттракционами, тиром и цыганскими гадалками, с другой — разливали белое вино из бочек, пиво, и полуголые темные юноши бодро, как черти в аду, жарили колбаски на решетке гриля шириной с небольшой бассейн. Появления Матильды нам пришлось ждать около часа, так как на сцену выходили ансамбли и театры со всей Каталонии. Чаще всего под зубчатыми крепостными стенами после объявления с апломбом появлялись стайки одинаковых девочек, чтобы плясать одинаковый брейк-данс, или выходил гитарист со стулом и одетой в национальный костюм женщиной, садился на женщину и играл на стуле. Или наоборот. Хотя все равно что-то не клеилось. Возле нас в ярмарочной сутолоке невинно приплясывали две монахини в белых сестринских платках и синих кофтах поверх ряс. Ноги у них были в серо-полосатых колготках, таких, в которых я ходил в детский сад. Потом появилась дочь Робин Гуда в узком багровом платье, туго подпоясанном под мышками, с рукавами вроде футбольных мячей и в большом багровом берете вроде кепки грузина. Матильда что-то начала говорить в микрофон, но, если я не ошибаюсь, электричества во время Ренессанса не было, и ничего у нее не выходило до тех пор, пока не появился добрый рыжий звукооператор из будущего и не направил микрофон с помощью волшебного заклинания: «Уна, дос, уна, дос, дос, трез». Потом, как это водилось в те далекие времена, случилось чудо, и к принцессе Матильде вернулся голос, и все услышали ее девичий голос. Заиграла старинная музыка, и на сцену парами вышли барышни в таких же старинных платьях и юноши в колготках и остроконечных носках.
Когда мы возвращались на микроавтобусе к ужину, Матильда была очень собой горда. Она даже не посчитала меня достойным ни одного своего царственного жеста. Только сидела, сложив тонкие руки внизу живота, приподняв бледный подбородок, и смотрела в окно, оставаясь в своем платье с раздутыми шарами на плечах и берете диаметром с летающую тарелку. А я то и дело, чтобы позабавить Мерседес, вылезал в проход и с видом папарацци делал ей фотографии.
Дома мы хорошенько поели и дождались Эцио, чтобы втроем с Мерседес отправиться в соседний городок, где с утра бушевала коррида.
У Эцио с Мерседес были небольшие спортивного вида рюкзаки, специально созданные для переноса и употребления напитков в необъятных количествах. Длинная прозрачная силиконовая трубка проходила через плечо вдоль лямки, и из нее можно было удобно пить, даже не пользуясь руками. Обычно в них заливались простые коктейли из рома с колой или водки с апельсиновым соком. По дороге на корриду они, практически не переставая, тянули из трубочек, и даже мне Мерседес дала несколько раз приложиться к своим винным силиконовым персям.
В маленький Колизей со спиртным не пускали, поэтому вся молодежь, за исключением особо любопытных туристов, оставалась болеть за быков и буянить на солнцепеке старой рыночной площади под романским собором. Там был установлен большой экран, по которому транслировали представление на арене. Но на этот экран почти никто не смотрел, так как большинство людей были уже настолько пьяны, что едва ли соображали, где они находятся и по какому случаю. Несколько десятков девушек в одних трусиках плескались в фонтане, куда то и дело в их русалочьи объятия за руки за ноги бросали освежиться перебравших весельчаков.
Мерседес и Эцио помогли мне взобраться на небольшую пальму с шишковатым стволом у собора и повелели оттуда не слезать, пока они не вернутся с новой выпивкой. Мне эта идея очень понравилась, я проводил их взглядом и с удовольствием стал наблюдать за толпой с этой выгодной неприметной позиции. На экране уже давно коррида сменилась музыкальными видеоклипами, и все вокруг больше походило на буйную дискотеку. Часа через два, когда уже совершенно стемнело, праздник усилился, и мне надоело это сидение, голова стала набухать от ритмов, пробирающих до костей. Мне становилось не по себе от мысли, что за мной никто не придет, но я твердо решил дожидаться, когда меня заберут. Они ведь обещали. Тем более ночью я не смог бы сам найти дорогу до виллы.
Вдруг я услышал какой-то треск, сопровождавшийся усиленным воем толпы, и вслед за треском раскатистый звон сигнализации. Я повернулся на пальме и увидел, что группа молодежи отрывает большие железные жалюзи с витрины магазина, привязывая их к большому мотоциклу с байкером в немецкой каске за рулем. Как только ребристая шторина была сорвана, ликующая толпа начала дружно забрасывать витрину пустыми и полными бутылками. Стеклина полопалась и рассыпалась как сахарная. Тут же в супермаркет с радостными воплями повалила молодежь, вынося оттуда весь алкоголь.
Все еще больше обрадовались, когда услышали сирену, неразборчивый голос через громкоговоритель и увидели, как два прожекторных луча упали с соседних зданий и забегали по кишащей народом площади. Это произошло где-то уже после полуночи. Я увидел, что часть молодежи куда-то понеслась, а другая часть принялась что-то неразборчиво скандировать и уплотняться в сторону главной улицы, поперек которой бусами растянулись белые шлемы полицейских. Стражи порядка наступали, грозно ударяя палками по стеклянным щитам. Там и тут появились бело-оранжевые фургоны с закрытыми металлической сеткой окнами. Потом началась рукопашная свалка почище, чем на Куликовом поле. Пошли в ход бутылки с зажигательной смесью, в ответ им полетели болванки со слезоточивым газом, очерчивая над площадью медленно тающие дымные дуги.
Тут сбоку в толпу врезались всадники на страшных лошадях в противогазах, все обратились в бегство, а потом появилась полицейская поливальная машина и крепкой белой струей начала смывать остатки праздника с площади вместе с упорными хулиганами, горами мусора, бутылками, пакетами и пивными банками. Когда струя захлестала по брусчатке под моей пальмой и на меня полетели отраженные от земли брызги, я испугался, что полиция смахнет меня с макушки и я разобьюсь. Тогда я сам спрыгнул и, пригибаясь, понесся вдоль стены собора прочь с этой проклятой площади.
Ночью на берегу было холоднее, чем в городе, но я предпочел ночевать на скамейке, укрываясь газетой, чем в подворотнях города, где еще было полно шарахающихся пьяных хулиганов. Я почти не спал, только лежал, мерз и думал, что все меня бросили и что не надо было мне приезжать в эту проклятую Испанию. Потом мне удалось урывками поспать до рассвета. Все это время мне мерещилось, что меня будит полицейский, собирается забрать в участок, или подкрадывается бездомный, но когда я просыпался, ничего не было, кроме яркого электрического шара с мошкарой и грозного шума набегающих в темноте волн, приводящих меня в оцепенение жути.
Когда стало почти светло, я сиротой казанской побрел через подметаемый неграми город к широкому шоссе, чтобы искать на нем съезд к лесной дороге, ведущей на виллу. Шел я очень долго и думал, что давно уже заблудился, но на первой же бензозаправке мне объяснили, что я иду правильно, и уточнили, как добраться до владений Аматле.
Добрался я только часам к двенадцати и нашел на вилле совершенно будничную атмосферу. Никто меня не терял, только Мерседес недовольно спросила, с какой это стати я ухожу из дому, когда все собираются к завтраку, и что это с моей стороны просто свинство. Тем более, что у нее сегодня болит голова и ей совершенно неохота бегать и звать меня к столу по всему лесу. Я чуть на месте не разрыдался от обиды, хотел устроить ей скандал, но вовремя понял, что ровным счетом ничего не смогу этим добиться, и убежал ненавидеть ее в свою комнату.
3
После этого случая я решил полюбить тихую Матильду, а ее старшую сестру возненавидел и больше не желал ее видеть.
За эти два долгих месяца на чужбине Мерседес я уже знал прекрасно во всех гадских подробностях, а вот Матильда все еще оставалась для меня загадкой. Я даже не мог разобрать, умна она или глупа. И не только из-за языкового барьера. Она вообще была какая-то скрытная, хоть и довольно вежливая. Даже с родителями она была замкнутой и раскрепощалась, только чтобы поскандалить с Мерседес.