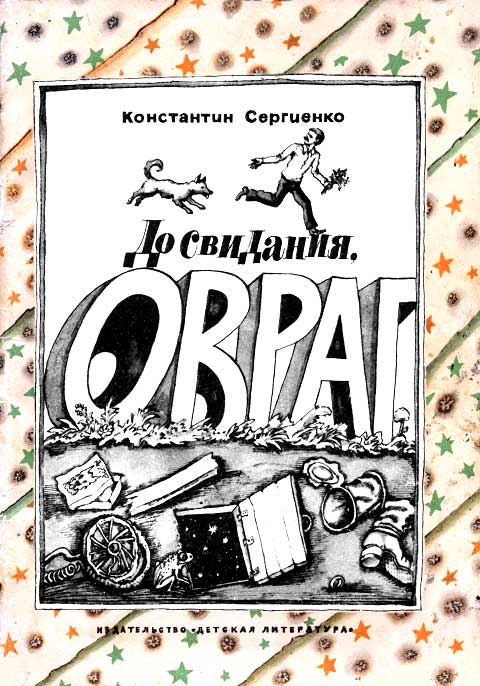— Тогда пойди и принеси мне два кубика льда, — указала она пальцем в сторону кухни.
— Подожди, подожди, но ведь я не соглашался быть домашним рабом. Я согласен быть только любовным.
— Тогда намажь меня с ног до головы кремом.
— Вот это другое дело, — сказала я, вскочил и выдавил на ее темную волшебно-рельефную спину длинного желтого ужа.
Уж чудесно размазался, и спина у нее заблестела как маслянистый тропический лист в раю или в аду — в зависимости от того, где они растут, эти продольно изгибающиеся к середине листья. Желтые червяки, как мои маленькие приспешники, бодро плюхнулись на ее ноги, и я раздавливал их из ревности, размазывая всю эту волхвоватую сальность по бедрам, икрам и голеням моей, в этот знойный полуденный час только моей, любимой!
— Я могу тебе и массаж сделать, — пропыхтел рабский лицемер.
— Тогда начни со ступней.
Змейки поскакали по ее сморщившимся ступням от положения пяткой вверх, и я кропотливо запихал их остатки между ее длинными пальцами.
— Тебе не щекотно?
— Мне никогда не щекотно, — ответила она беспечно. — У меня железная нервная система.
Полностью полагаясь на систему, я без лишних вопросов приспустил с нее трусы и быстро выдавил на две круглые булочки по извилистой змейке своего сладострастия. Она не пикнула, система не подвела, и только через минуту моей усердной работы над искажением симметрии чудесно прохладных ягодиц, когда хлебопек уже, признаться, чуть ли не падал в обморок, Мерседес приподнялась на локтях и сказала равнодушно:
— Малыш, а ты чего там?
Я ляпнул что-то вроде: «Должно быть все помято, должно быть мято все!» — и возможно, на обоих известных мне языках, а может быть, и на вовсе неведомом мне, потому что ответила она буквально следующее:
— Тогда можешь и ниже, — сопроводив это рискованным гоготком.
Я уже чуть было не вкрался в запредельные области своих массажных, да и писательских способностей, так сказать, в святая святых ее телесного капища, как вдруг услышал знакомый откуда-то голос:
— Как это!
А я и не заметил, что фортепьяно, стоявшее у нас на шухере, замолчало. Конечно же, это был проклятый Хавьер. Почему проклятый, я объясню позже, а сейчас он взял меня за ухо двумя пальцами, как крысенка за хвостик, и отнес в мою комнату. Дверь хлопнула, и я остался один с жарко пульсирующим ухом в томительном ожидании продолжения.
Потом на протяжении часа с разных концов и глубин дома доносились звуки отвратительного скандала, скандала в той степени, при которой у меня на родине не обходится без поножовщины и суицидальных представлений. Глухо бились цветочные горшки, звонче разлетались коллекционные тарелки и вазы Мигуэлы. Потом раздался истошный вопль Мерседес, и я решил, что внутри произошло убийство и через пару минут моя дверь начнет разлетаться в щепки от страшных ударов топора обезумевшего испанского папаши.
Недолго думая, я растворил окно и спрыгнул со второго этажа в сад. Рыхлая рыжеватая грядка любезно приняла меня, и я совсем не ушибся, только расцарапался о колючие кусты. Я побежал вокруг дома и столкнулся с Мерседес.
— Я думал, он тебя убил! — выдохнул я и ни за что ни про что получил в больное ухо. Вечно мне от них достается.
Разобиженный, я пробежал через развороченный холл на лестницу и снова, уже добровольно, заперся в своей комнате.
Все время до вечера, пока у меня не кончались деньги на телефонном счете, я писал маме эсэмэски о том, что хочу немедленно вернуться домой. Мама пообещала позвонить на следующий день и написала, что если я не передумаю, то они меня заберут. Время от времени ко мне стучались, но я не открывал и не отзывался. Потом про меня часа на два забыли, и я сидел в тяжелом одиночестве, думая о том, что теперь ничего не исправить и единственное, на что я могу рассчитывать, это на ее прощальный поцелуй.
Но вдруг я услышал внизу дружеский разговор, смешки Хавьера и Мерседес, и до меня донеслись звуки уборки, завыл на одной ноте пылесос, зазвенели вметаемые на совок осколки и зафыркали открытые на полную мощность краны. Я даже стал им завидовать. Мне хотелось распахнуть проклятую дверь, побежать вниз и поучаствовать в этом противоестественном для моих представлений примирении. Но что-то нездешнее держало меня взаперти, и я не мог преодолеть это привезенное с собой из России чувство не обиды, а что-то близкое к благородной злопамятности, но по сути все же нечто другое, что объяснить или назвать словами я не могу.
Когда уборка затихла, мне показалось, что все либо ушли на прогулку, либо пораньше завалились спать.
— Алик, Алик, — тихо застучалась ко мне Мерседес. Сидя на кровати, я весь подобрался, но промолчал. — Прости меня, пожалуйста, просто ты попал мне под горячую руку. Ну пожалуйста! Пожалуйста, прости меня! Если ты меня не пустишь, я этого не переживу…
Не слишком-то спеша, я слез с кровати и открыл ей дверь.
Она вошла в комнату какая-то затаенная, как будто только что исполнила долг, умертвив Цезаря или Марата.
— Он меня уже простил? — спросил я.
— Зовет нас, — сказала она, тихо и часто дыша.
Я как в тумане последовал за ней через темный коридор в родительскую спальню. Он принимал нас, стоящих посреди комнаты, возлежа во мраке на высоком царственном ложе. Окно, как отдушина в аду, было распахнуто в зеленую гущу томительно душного сада. Хозяин, как всегда, говорил мало, и каждое слово его падало словно капля расплавленного свинца.
— Глаголь же, несчастный! — сказал Хавьер Грозный.
— А чего глаголать-то?
— Глаголь, что дальше!
А я, собственно, не знал, что именно дальше — женитьба или расстрел фалангистами у беленой стены под мимозами. Но на всякий случай сказал:
— Я принял решение.
— Какое?
— Я женюсь.
Мерседес пошатнулась, схватилась за рот и молнией выбежала из комнаты, едва вписавшись в дверной проем.
Понтий Пилат откинул простыню, и я немножечко охренел от того, что все это время он лежал в костюме для игры в гольф. Не хватало ему только белых тапочек и целлулоидного козырька на резинке.
— Ты хорошо себя чувствуешь? — обеспокоенно спросил он, подойдя ко мне и потрогав мой ледяной лоб.
— Не знаю.
— А на ком ты собираешься жениться? — опасливо поинтересовался родитель.
— Ни на ком, — жалко отозвался Петр, но петух промолчал (до трех он считать умел).
— А все-таки?
— Не знаю.
— А чего же ты тогда сказал, что женишься?
— Не знаю.
— Ты смотри за тем, чтобы она тебя не испортила, — отечески сказал Хавьер, поняв, что петух прозевал. — Она ведь думает, что это смешно, а это совсем не смешно. Ведь так?
Я быстро покачал головой в знак согласия с тем, что это совсем не смешно.
Выйдя из комнаты, я как пьяный прошел мимо Мерседес.
— Эй! Ты живой? — бросила она мне вслед.
— Живой, — отозвался я. Остановился, но не обернулся.
— И ты все еще мой раб?
— Раб, — ответил я серьезно и пошел в свою комнату.
Она последовала за мной. В обязанности госпожи входило убирать рабу постель перед сном, и что я обычно только не делал, чтобы как-нибудь затянуть эти удивительные минуты.
— Останься со мной ненадолго, Мерседес, — попросил я.
— Но я хотела еще принять ванну. Если хочешь, можешь потереть мне спинку, — предложила она со смешком.
— Тогда он меня точно распнет на алоэ.
— Вот видишь, ты боишься ради меня умереть. А это значит, что ты еще недостаточно меня любишь.
Она погрозила пальцем, потом подняла голову и подозрительно принюхалась:
— Слушай, дружочек, а ты часом не пукнул?
— Нет, милая, это я душу испустил от любви к тебе.
— А что же она у тебя такая смердящая?
— Грехи, — со вздохом признался я.
Она сидела на кровати рядом со мной, и я странно чувствовал ее тяжесть, словно матрас был частью меня или я был частью матраса. Позади нее горел ночник, и я видел нежные светящиеся пушинки по краю ее щеки (передней боковой части морды, по определению Ожегова), и темные жесткие волосы над головой светились ажурным золотистым нимбом, и я вновь был счастлив и мечтал, чтобы это никогда, никогда не кончалось.