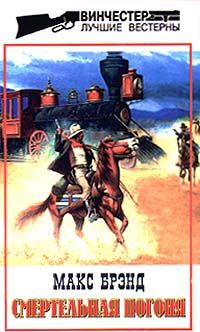— Кого нас?
— Нас, людей, — сказал Робер Друэн, зажигая сигарету левой рукой.
Недалеко от дома, где жили врачи, примерно метрах в ста, Робер увидел отгороженный участок, куда выводили гулять больных, когда выдавался погожий день. Территория больницы, засаженная деревьями, на которых сейчас лежали шапки снега, напоминала школьный двор: тут тоже были и свои «учебные помещения», и свои внутренние дворики, где гуляли больные под наблюдением санитаров. Группками собирались только облаченные в белые халаты. А те, в сиреневом, ходили по двору каждый сам по себе, их маршруты скрещивались, но они не задерживались при встрече, а бежали дальше, они сновали во всех направлениях, обгоняя друг друга и стараясь не задеть один другого. То, что движутся они как-то необычно, не сразу бросалось в глаза, но спустя некоторое время вы начинали замечать это, и это производило удручающее впечатление. Кто-то что-то выкрикивал, прижав руку к груди, словно выступал на многолюдном митинге. Кто-то в десяти метрах от него размахивал руками, и казалось, что его жесты имеют какое-то отношение к словам ораторствующего. Кто прыгал, подражая кенгуру: прыгнет раз двенадцать подряд, передохнет и потом начинает все сначала. Этот без остановки раскачивал левой рукой правую — получался маятник. Другой, взобравшись на спинку скамейки, держал равновесие. И каждое движение — его ритм, скорость, направление — было абсолютно неповторимым, и исполнители, по крайней мере большинство из них, будто и не видели друг друга. Временами ритм замедлялся, наступала минута покоя, но потом — «оратор» опять неистовствовал, «кенгуру» высоко подпрыгивал, а «маятник» раскачивал левой рукой правую.
Обстановка отдавала казармой, тюрьмой, в лучшем случае школой, но многообразие движений, чередование цвета — сиреневое, белое и красное — было как в балете Брауна, балете дисгармоний.
— Жизнь в транспонировке Брауна, — сказал Оливье. — Летом они так проводят целые часы. Это шизофреники. Их видно невооруженным глазом. Некоммуникабельность. Попробуй найти хотя бы двух, которых бы связывали приятельские отношения.
Их непоседливость и разобщенность были физическим выражением их недуга.
— Пойдем, посмотришь Португальца.
Роберу казалось, что он живет в Марьякерке очень давно — много-много недель. Они вышли во двор, прошли под аркой. Там неизменно горел тускловатый свет, хотя на небе уже сияло утреннее солнце. Им повстречалась партия рабочих, говорили по-фламандски. Роберу стало как-то не по себе, словно он услышал бессмысленную тарабарщину. Друзья обогнули здание, — прилегающий к нему двор как раз и был виден из окон их дома, — и направились к ельнику.
— Мой уважаемый мэтр очень образно называет эту часть наших владений преддверием рая.
— Неплохо придумано, если учесть, что рождество на пороге.
— Ну да. Ведь у нас здесь выжившие из ума старики.
— У тебя ноги еще не замерзли?
— Ничуть. Я привык. Ох, и рождество же я тебе устрою, старик!
— А для Жюльетты все это — смертельная тоска. Ты видел, какая у нее сегодня была физиономия? Она ни на что не способна реагировать нормально.
— Согласен. Ее реакции преувеличенны. Все та же теория стресса. Ты знаешь, один канадский ученый, Селье, обнаружил, что, когда крысам делали специальную инъекцию, они, как правило, реагировали одинаково — набуханием надпочечников. На основании этих наблюдений он и построил теорию стресса. Организм реагирует на раздражитель сигналами бедствия. Он отвечает на «выпады» против него, начиная с физиологических изменений и кончая душевными. Это ново. Полагают, что теперь электрошок можно заменить чем-то другим. Кстати, я думаю, что сегодня смогу тебе показать сеанс электрошока.
— В канун рождества? Тоже выбрал время! Так я слушаю, продолжай.
— Ну вот, Селье отправил на тот свет не одну тысячу крыс, прежде чем пришел к своему открытию. Он резал крыс, он обезглавливал крыс, вызывал у них рефлекс страха и доводил до состояния безумия, морил их голодом, топил… В общем — Аттила. Подвергал пытке водой и электричеством. «Именем суда совести всех крыс вы объявляетесь военным преступником», — сказал бы предводитель крысиного войска. Гестапо для крыс! Но зато «сделан шаг вперед», как сказал один подвижник из «Юнеско». Ну как, разумеешь?
— Разуметь-то разумею.
— Но я не вижу на твоем лице восторга.
— Мне отвратительны страдания, пусть даже они служат делу прогресса.
— Ну что такое крысы, будут ли они истребляться целыми полчищами или поодиночке — какая разница! Ты рассуждаешь, как старый либерал!
— Не будем об этом. Мне слишком больно, особенно сейчас. Ну и что же дала в конце концов затея с крысами?
— А вот что, старина, слушай меня внимательно: когда организм не мобилизует всего себя в ответ на какое-то сильное раздражение, значит, больной поражен некаталагизированным недугом, то есть таким недугом, который имеет общие признаки с любым другим, — недугом из недугов: примирением с болезнью. Теперь понимаешь?
— Мысль любопытная: недуг из недугов.
— Организм «атакованный» может дать две реакции: или он «расщепляет» удар, и тогда приходит в норму, или он не «расщепляет» его, и тогда начинается эта самая болезнь — приятие болезни.
— И ты полагаешь, что у Жюльетты?..
— Ну, она-то слишком реагирует! Вот Ван Вельде — действительно трудный случай. Он плывет по течению. Потому-то шеф так и встревожен. Стоило только слегка его кольнуть — я имею в виду свидание с Сюзи…
— Это слишком деликатно сказано.
— Ну ладно, скажем так: стоило его разок тряхнуть — и из него уже дух вон. И он не сопротивляется. Потому-то шеф и собирается попробовать электрошок. Самое ужасное в нашем ремесле — взять на себя смелость сделать выбор: решить, какое из средств наименее безвредно. Вот на этом-то я и споткнулся, когда был помоложе.
— Мне показалось вчера, что твой шеф считает Ван Вельде симулянтом.
Они остановились, чтобы закурить. Чиркнула спичка, и пламя врезалось ярко-красным в мутновато-желтую голубизну дня. Они стояли у корпуса, окруженного черными елями.
— Нет, Эгпарс так не считает. Он просто дал понять, что иногда Ван Вельде немножко играет. Между прочим, настоящего симулянта, так сказать, голого симулянта, то есть человека абсолютно здорового, но притворяющегося больным ради личной выгоды, можно в два счета разоблачить. Ресурсы симуляции ограничены тем, что есть в человеке. А у Ван Вельде получилась уже сверхсимуляция, потому что он «раздул», театрализовал свое самоубийство, чтобы воздействовать на Сюзи. Шантаж в общем-то. Она все равно бросит его. И он это знает. Это же было и так ясно! Она все время будет изменять ему. И отныне те смутные, рождающиеся где-то в подсознании силы, что помогают организму противостоять болезни, готовы капитулировать.
— Как ужасны эти болезни… не знаешь, с какого конца ухватиться за них. А тебе не кажется, что Кафку толкуют неверно. Он же реалист.
Они все еще стояли у входной двери, а Оливье и не думал звонить.
— Ты не расстраивайся из-за Жюльетты, — сказал он. — Рассудок у нее крепкий. Единственно, что смущает, — ее агрессивность.
— Ну уж, если кто и агрессивный, так это ты! Вспомни свою вчерашнюю стычку с Фредом.
— Ну, я просто был взбешен.
— Да, любопытно… А Эгпарс-то уважает тебя И верит в тебя.
Оливье с силой нажал на кнопку звонка.
— Он прав. Знаний у меня немного. И опыта не хватает. Я далеко не безупречный ассистент. Слишком импульсивен, слишком болтлив. Но я добросовестен и быстро осваиваюсь с обстановкой. Этим я и восполняю недостающее. И потом я много пережил и приобрел кое-какой опыт. Мне казалось, что для моей врачебной деятельности он не имеет значения. Но я ошибался. Он помог мне пройти путь, который проделывает какой-нибудь недавний студентик, в три раза быстрее, чем он.
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты стал хорошим врачом. И чтобы ты обрел душевное равновесие.
Оливье нетерпеливо позвонил еще несколько раз.
— Да что они в самом деле, издеваются, что ли.
Послышались шаги. Поворот ключа. Скрип двери. Неожиданная яркость стен, белое пятно халата; санитар виновато улыбался.
Они вошли, повесили на вешалку пальто. Оливье просмотрел книгу назначений, расписался на полях. Потом они прошли в одну из палат: почти все больные лежали абсолютно недвижно. Ни игр, — пинг-понга или хотя бы шашек, — ни музыки. Робер, которого Эгпарс провел по другим отделениям, отметил про себя, что там больные искали встречи с врачом, старались обратить на себя внимание. Здесь же — ничего подобного. Страшные маски, лица — последняя степень деградации, в глазах — пустота; узкие лбы, отвисшие толстые губы, разросшиеся уши; движения — расслабленные; одним словом, головокружительное падение человека в бездну истории человечества.