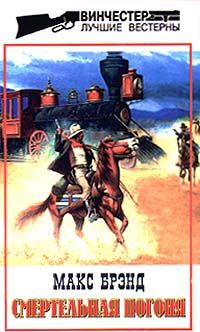И ясли-то были им под стать: беспомощное, наполовину развалившееся сооружение, — дети в детском саду и те строят лучше домики из кубиков.
В дальнем углу помещения находилась почти совершенно изолированная комната в шестнадцать квадратных метров. И оттуда на них глядел довольно полный мужчина вполне опрятного вида, в светло-желтой куртке на молнии и в шлепанцах.
— Как сказала бы Сельма Лагерлеф: позвольте вам представить императора Португалии.
Мужчина в куртке не производил впечатления дегенерата, как все остальные. Карий цвет глаз, седина, слегка тронувшая волосы и брови, смягчали кирпичную красноту лица. Он рисовал. На белом листе бумаги влажно блестела разноцветная гуашь. Начав с верхнего левого угла, он осторожно вел руку вниз по листу, пока не закрасил его целиком.
Португальцу явно понравилось, что ему выказали внимание: он передвинул на другое место тюбики с краской и банку с водой, выдвинул ящик столика, и оказалось, что тот полон рисунков. Он взял один и протянул Роберу. Несколько лет назад после визита в Сент-Анн, где его принимал директор больницы, Друэн показал на телевидении серию работ этих безумцев. «Прошу прощения, — поправил его тогда директор Сент-Анн, — о больных говорите, пожалуйста, „больные“». Так вот, лишь немногие из представленных на телевидении рисунков могли сравняться с этим.
На нем была изображена каравелла серовато-охряных тонов. Можно было разглядеть сирену на носу судна, пушки на борту, ванты, паруса с креплениями. И было в картине еще нечто такое, отчего становилось не по себе. Узенькая, почти незаметная полоска неба, фиалковые волны, на которых покачивается каравелла, и каждая волна тщательно выписана, и все они безукоризненно одинаковы. Никакой перспективы. Но и это было не главное. А главное — вот оно, главное: каравелла как бы раздваивалась, существовало две каравеллы, которые не совмещались одна с другой. Они находили друг на друга, как у Пикассо. «А-а, — вдруг понял Робер, — это потому каравелла, что мы уже привыкли с детства к искаженным формам кубизма и сюрреализма».
— Каравелла, — сказал Оливье. — Она прекрасна, не правда ли?
Робер впервые заговорил с больным; стараясь не оскорбить его неловким словом и чувствуя себя виноватым перед ним, он мягко осведомился:
— Вы хотите, мосье, уплыть на этом корабле?
Роберу представилось, как двутелый корабль спускают на воду в порту Остенде, как, раскачиваясь на длинных зеленых волнах, он проплывает мимо церкви св. Петра и Павла и выходит в открытое море, — море, над которым нет неба, море с сиренами, резвящимися в пене волн, — гордый своим пассажиром, которого он несет к заветной земле.
Больной не ответил.
— Напрасно стараешься. Он понимает только португальский.
Робер почувствовал, что ему сдавило горло: он ужаснулся услышанному.
— А кто-нибудь в Марьякерке говорит на португальском? — спросил он.
— Никто.
— Как видишь, этот рисунок, — наглядный пример распада личности, — обратился к другу Оливье, словно бы и не замечая его смятения. — Мануэль говорит только на португальском, но он умеет заставить людей понимать его. Два корабля в одном — воплощение его душевного состояния. Он все представляет себе таким образом. Личность разодрана на части. Шизофрения в чистейшем виде. Через рисунок мы и поддерживаем контакт с ним.
— Он трижды затворник, — сказал Робер, — его отделяет от мира его язык, его болезнь и стены больницы.
— Да, и он император Португалии.
— Почему же его не отошлют в Португалию?
— А никто им не интересовался.
— Но есть хоть какая-то надежда на его выздоровление?
— Никакой.
Робер проглотил слюну.
— А каково его положение с юридической точки зрения?
— Абсолютно бесправен. Есть два свидетельства о его невменяемости, скрепленные подписью врачей-специалистов; повод — ненормальное поведение в порту Остенде. Мануэль разнес в щепы одно бистро, кажется, In de Kleine Accordeonist[14]. Так как он не мог объясниться и никто не мог понять, что он говорит, ему пришлось обосноваться здесь.
— И давно он у вас?
— Два года.
— Да ведь это же произвол, это…
— Ну не так уж все страшно. То, что с ним стряслось, гораздо страшнее, как ты говоришь, произвола, который, впрочем, не так уж част в нашей практике. Мануэль действительно болен. Говори он по-французски, он все равно оказался бы тут.
— Между прочим, Эгпарс уверял, что слово — главное лекарство среди имеющихся в его распоряжении.
— Совершенно верно. Но тут особый случай. Улучшить состояние больного нет возможности. И выдворить отсюда нет возможности. Вот его и держат здесь.
— Действительно есть от чего свихнуться, — тихо сказал Робер, на сей раз без всякого намека на юмор.
А из ящика извлекались все новые рисунки, и там плескалось море, голубое, совсем не похожее на Северное, зеленовато-сероватое. Рисунки складывались в картину жизни — скрытой от людского глаза жизни Мануэля, императора Португалии, что в своих рисунках неизменно возвращался к одному женскому образу: красивое античное лицо, устремленная ввысь фигура; особенно часто появлялась улыбающаяся брюнетка в черной повязке.
— Если б мы могли спросить у него, кто эта женщина, и если б он смог объяснить нам, наверно, мы бы кое-чего и добились в лечении его недуга. Мы несколько раз пробовали подступиться к нему, пользуясь приездом гостей-психиатров или посетителей. Мануэль как будто бы понимал, но отвечать не хотел. Погляди, опять эта женщина.
— Красивая. Но заурядная. Каравелла интереснее.
— Ты находишь?
— Конечно.
— Мне тоже так показалось.
— Трудно поверить, что и эти корабли и женщины — дело рук одного художника.
— В таком случае Эгпарс прав. Он считает, что, как только Мануэля охватывает эротический психоз, он лишается своей неповторимости, утрачивает свою индивидуальность. Он теряет свое лицо.
— Это общая беда, — заметил Робер, грустно улыбнувшись. — Все мужчины в подобных случаях теряют свою индивидуальность. Это ведь все та же стереотипная красота, рекламируемая журналами, тот же тип — его южный вариант. Только вместо блондинки — брюнетка, вот и вся разница.
— Мы проставляем даты на его рисунках. Они для нас ориентир. Если он работает без огонька, значит, у него наступила ремиссия. Ему позволяют выйти.
— Из больницы?
— Ну нет, конечно! Из отделения.
— А он не кидается на сестер?
— Ни на сестер больничных, ни на сестер во Христе.
Больному, видно, льстил интерес к нему посетителей. Он взглядом следил за движениями обтянутой кожей руки, которая комментировала его работу. Ибо, — хотя Робер и приучил себя к мысли, что он должен в практических делах отказаться от услуг правой руки, — именно, правую руку тянуло выразить жестом состояние. И он относился к своей лишенной жизни руке как к живой.
По фиолетово-голубому морю бежал парусник, а над морем, скосив линию горизонта, легла узкая ленточка красноватого неба. Море волновалось, и его волнение, как и на других рисунках, было размеренно и скрупулезно выписано художником. Некоторые картинки приводили на память Блейка и Тёрнера. В открытое море выходит пурпурный корабль, влекомый крошечным ярким пятнышком, желтеющим вдали, и на фоне этого солнца вырисовывается четкий силуэт женщины, стоящей в горделивой позе. Неизменный женский лик.
— Мы с Эгпарсом не выпускаем Императора из поля зрения. Ну и поломали мы голову над его рисунками! И знаешь, к какому выводу мы пришли? Они — поиски прибежища. Возможно — дорога в детство. Он молча рассказывает нам про свою беду. А порою вопиет о ней. И ты не скрывай своих эмоций, ахай побольше. Он обожает это.
Вытянув руку, Робер взял следующий рисунок, приставил его к стене и, отступив на шаг, поаплодировал художнику, из-за кожаной перчатки звуки получились неприятные, булькающие. Но Мануэль весь засветился.
Однако Оливье было не до улыбок, он вдруг обратил внимание на то, что смеялась у больного одна половина лица, правая, тогда как другая оставалась неподвижной, мертвой. Ничего подобного прежде он у Мануэля не замечал.
— Потрясающе! — сказал Робер. — Я впервые вижу такое, если не считать Ван-Гога периода его кипарисов и, может быть, Шварц-Абрис — я имею в виду портреты сумасшедших.
— Тут у нас был один служащий, садовник, тоже португалец. Они любили поболтать с Мануэлем. Император тогда был вполне миролюбив, Эгпарс поощрял их дружбу. И садовник понимал Императора. Но когда Эгпарс пытался через него задавать вопросы Императору, он только руками разводил! А в живописи понимал и того меньше! Его очень веселили рисунки Мануэля. Главным образом из-за того, что плоскость рисунка у Императора, если ты заметил, всегда немного наклонена. Нашему садовнику такая живопись не по зубам, ему надо, чтобы все было ровно и прямо. И пришлось их разлучить, потому как дело уже дошло до драки. С тех пор садовник затаил обиду на Эгпарса. И теперь, когда встречается с ним, отворачивается. Ему кажется, что с ним сыграли злую шутку.