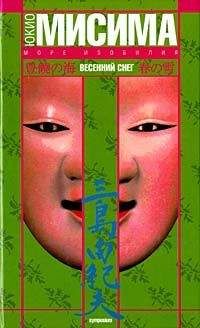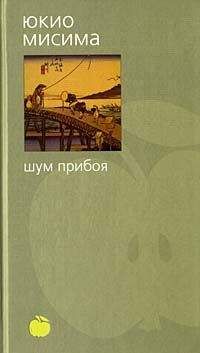Рядом с темными стеклами очков щеки Тору казались еще более бледными, а губы еще более алыми. Он всегда сильно потел, и сейчас под распахнутым легким кимоно на груди у него блестели капельки пота. Скрестив ноги, он полностью отдался в руки Кинуэ, даже в уголке сознания у него не отложилось, что совсем рядом сидит Хонда — это было понятно по его жестам, когда он правой рукой, нервно завернув подол, чесал бедро или почесывал грудь. Однако эта распущенность в жестах вовсе не производила ощущения силы. Скорее казалось, что с нависавшего над головой потолка тянутся ниточки, которые и управляют его движениями.
У него должен был бы обостриться слух, но он не производил впечатления человека, слух которого активно впитывает внешний мир. Определенно, Тору воспринимал любого, кто был с ним рядом, кроме Кинуэ, одинаково безразлично, даже если бы самолюбие заставило вас встать и уйти, все равно у вас оставалось бы ощущение, что вы всего лишь частичка того мира, который он отбросил. Он заставлял вас почувствовать себя пустой ржавой банкой, брошенной в угол сада, густо заросшего летней травой.
Тору не демонстрировал презрения. Не сопротивлялся. Он просто молча сидел здесь.
Когда-то, пусть и фальшивые, его чудесные глаза и чудесная улыбка на время привлекли к нему людей. Теперь он не улыбался, а это было единственным, за что можно было бы ухватиться. Демонстрируй он раскаяние или печаль, нашлись бы те, кто захотел бы его утешить, но Тору никому, кроме Кинуэ, не показывал своих чувств, а Кинуэ не рассказывала другим о том, что видела.
С утра шумно пиликали цикады, свет, лившийся на веранду с неба сквозь листья деревьев одичавшего сада, просто слепил, и от этого в комнате было еще темнее. Садик перед флигелем, ограниченный кругом оправы, отражался в темных очках Тору, которыми он демонстрировал свой отказ от внешнего мира. После того как срубили камелию, росшую у миниатюрного прудика, садик без цветов потерял свой облик: между сложенных в горку камней буйно прорастали сорняки, и пятна света, пробившиеся сквозь росшие вокруг деревья, ложились на темные очки Тору.
Глаза Тору перестали отражать внешний мир, вместо этого облик данного мира, не имевший ничего общего ни с потерянным зрением, ни с самосознанием Тору, стал тщательно отпечатываться на поверхности темных стекол. Взглянув на них, Хонда был скорее удивлен тем, что там отражается лишь его лицо и садик за спиной. Если море, корабли и бесчисленные чудесные знаки на их трубах были в сознании Тору и связанных с ним фантазиями, то не было бы ничего странного в том, если бы в слепых глазах за темными очками навечно отпечатались бы их силуэты. Если и для Хонды, и для других внутренний мир Тору стал непостижим, то было бы вполне понятно, если бы и море, и корабли, и знаки на корабельных трубах тоже оказались заключены в тот же непостижимый мир.
При этом, если море и корабли принадлежат внешнему миру, не имеющего отношения к внутреннему миру Тору, то они должны отчетливо точной картинкой возникнуть на этих темных стеклах. Иначе может получиться, что Тору полностью захватил внешний мир своим темным внутренним… Пока Хонда размышлял над этим, через садик на круглой картинке из темного стекла пролетела белая бабочка.
Тору сидел скрестив ноги, и выглядывавшая на свет из-под легкого кимоно голая подошва была белой и морщинистой, словно у утопленника, местами, будто сползавшая позолота, в нее въелась грязь. Заношенная одежда была мятой, с желтоватыми разводами от пота сзади на воротнике.
Хонда с самого начала чувствовал какой-то странный запах, и тут он понял, что вокруг висит смесь запахов — запах грязной и засаленной одежды Тору, смешанный с запахом молодого мужчины, так летом пахнет темная канава, и еще неистребимый запах пота. Тору отбросил даже свою болезненную привычку к чистоте.
А цветы не пахли. В комнате было множество цветов, но они не пахли. Розы, которые Кинуэ определенно заказывала в цветочном магазине, были в бело-алом беспорядке разбросаны по полу, доставленные четыре-пять дней назад, они пожухли и завяли.
Кинуэ украсила свои волосы белыми розами. Они были не просто воткнуты в волосы, а небрежно прихвачены эластичной лентой, и при каждом движении деятельной Кинуэ цветы, поникшие головками в разные стороны, терлись сухими лепестками и издавали какой-то пустой звук.
Кинуэ, вставая и наклоняясь, украшала черные, блестящие густые волосы Тору красными розочками. Она стянула волосы Тору шнурком от пояса оби и подсовывала под него с разных сторон увядшие алые цветы — это напоминало занятие по аранжировке цветов: воткнув пару цветков, она останавливалась и смотрела на свое творение издали. Некоторые цветы, не удержавшись, падали, они щекотали Тору щеки и уши, но Тору отдал свою голову в руки Кинуэ и молча позволял ей поступать так, как она хотела.
Хонда некоторое время наблюдал за этим, потом поднялся и вернулся к себе переодеться для поездки.
Хонда слышал, что теперь, в отличие от прошлого, в Нару ведет очень хорошее шоссе, поэтому он решил остановиться в Киото, переночевал в гостинице и заказал такси на двадцать второе число, ровно на двенадцать часов. Было довольно душно, собирались тучи, в предгорье обещали моросящие дожди.
Сев в машину, он испытал облегчение от того, что наконец добрался сюда, и почувствовал, как под старомодным желтоватого цвета полотняным пиджаком его уставшие тело и душа оказываются во власти ощущений. В машине был предусмотрен кондиционер, тут же лежал плед, чтобы накрыть колени. Даже сквозь закрытые окна в машину проникал стрекот обосновавшихся вокруг гостиницы цикад.
«Вряд ли я сегодня увижу скрываемый человеческой плотью скелет. Это ведь всего лишь идея, понятие. Увижу все, как есть, и, как есть, сохраню в душе. Это моя последняя в этом мире радость, мой последний долг. Сегодня я могу смотреть сколько угодно, так что буду смотреть. Беспристрастно смотреть на все, что будут видеть мои глаза», — такое решение принял для себя Хонда, как только машина тронулась.
Путь его от гостиницы лежит мимо монастыря Сампоин в районе Дайго, потом через мост Кандзинбаси к дороге, ведущей в Нару: затем они пересекут парк и поедут до Обитокэ, куда и направлялся Хонда, по шоссе Тэнри — все это займет около часа.
Хонда обратил внимание, что на улицах Киото много женщин под зонтиками от солнца, чего практически не увидишь в Токио. Женские лица под зонтиками с прозрачной тканью были освещены солнцем, а под тканью с узорами казались затемненными. Одних красивыми делало освещение, других — полумрак.
От жилого квартала Ямасина они свернули направо: потянулись заводы и понапрасну сверкавшие под летним солнцем пустынные окрестности. На остановке, среди ждущих автобуса женщин с детьми, даже на лице беременной женщины в платье с крупным рисунком, страдавшей от жары, был заметен мусор, всплывавший на поверхности бурного потока непрекращающейся жизни. За их спинами лежало небольшое запыленное поле помидоров.
В преддверии Дайго расстилался современный скучный пейзаж, такой можно увидеть в любом месте Японии — новые строения и бесконечные крыши со сверкающей синей черепицей, телевизионные антенны, линии электропередачи с сидящими на них птичками, рекламы кока-колы, закусочные с автостоянками. Под обрывом, на вершине которого дикие хризантемы пронзали своими головками небо, была автомобильная свалка, три машины — синяя, черная и желтая — бросались в глаза среди груды мусора: окраска их кузовов ярко горела на солнце. Хонде это место, которого автомобили стеснялись, которое не хотели показывать, вдруг напомнило прочитанную им в детстве приключенческую повесть, где рассказывалось о болоте с залежами слоновой кости — туда слоны приходили умирать. Наверное, автомобили тоже, предчувствуя конец, каждый по-своему собираются на кладбища и делают это открыто, не стыдясь людей, как и положено автомобилю.
Они въехали в город Удзи,[53] и взгляду впервые открылась синь гор. Вывеска с надписью «Вкусная карамель» и протянувшиеся к самой автомобильной дороге молодые листья бамбука.
Переехали мост через речку Удзигава. Выехали на шоссе, ведущее к Наре. Миновали Фусими, затем окрестности Ямасиро. В глаза бросился указатель «Нара 27 км». Время текло. Видя очередной знак, Хонда каждый раз вспоминал выражение «веха на последнем пути». Ему казалось нелепым, что он снова едет по этой дороге. Расставленные на ней знаки ясно указывали путь, по которому он должен следовать… «Нара 23 км». Смерть приблизилась на один километр. Несмотря на работающий кондиционер, окно было чуть приоткрыто, и снаружи доносился стрекот цикад, назойливый до шума в ушах. Казалось, под палящим солнцем весь этот мир издает унылый звон.
И опять бензоколонка. И опять кока-кола…