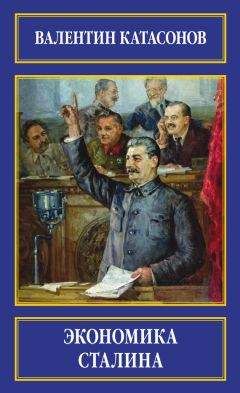— А вы откуда знаете?
— А ты думаешь, что в милиции одни дураки работают?!.. Мы секту в прошлом году накрыли. Допрашивал я одного преподобного. Много мне чего смешного рассказал… Значит так, подытожим… Зовут тебя Лаврентий Зайцев в честь святого, ты ходишь без документов, спишь на сугробах и спасаешь в мыльнице мух… Скорее всего, ты сбежал из психушки, где тебя принудительно лечат… Ты сбежал из психушки и первым делом, конечно же, нажрался… И еще, интуиция мне подсказывает, что ты из Москвы!
— Откуда вы узнали?
— У меня на вас нюх.
Лаврентий уцепился за эту тему и попытался рассказать лейтенанту всё, что с ним случилось.
Лаврентию показалось, что лейтенант к концу истории почти поверил и смотрел на него уже как-то более по-человечески.
— Вот примерно такая история, — закончил Зайцев.
— Ну, допустим, это так… Фамилия невесты?
Лаврентий пожал плечами:
— Я как-то не спросил…
— Хм… Адрес?
— Не знаю…
— Что же это вы, Лаврентий Палыч, ничего-то не знаете?.. А?..
Лаврентий опять пожал плечами.
— Так-так, — милиционер взял мыльницу и поднес ее к уху. — Жужжит что-то, мать ее… Значит, ты утверждаешь, что там муха?
— Да.
— Значит так… Документов нет, фамилии невесты не знаешь, адреса тоже, а утверждаешь, что в мыльнице у тебя муха?.. На, — лейтенант протянул Лаврентию мыльницу, — покажи.
Лаврентий подцепил ногтем крышку. Мыльница раскрылась, из нее вылетела муха и полетела на лампочку.
— Мать ее! — лейтенант вскочил из-за стола, свернул газету, поставил стул на стол, залез на него и ударил по мухе.
Муха успела взлететь. А лейтенант зашатался, замахал руками и полетел вниз головой прямо на железный сейф.
Всё произошло так стремительно, что Лаврентий еще не успел ничего понять, когда лейтенант уже лежал в луже крови и дергал ногой.
Лаврентий не помнил, как он выскочил из кабинета и сбежал из милиции на улицу.
13 ЛАВРЕНТИЙ ЗАЙЦЕВ ВЕРНУЛСЯ
Полтора месяца Лаврентий Зайцев бомжевал по подвалам города Уссурийска и жил как придется.
Однажды он пошел на базар, выпрашивать подаяние, и там встретил Светлану. Светлана его сначала не узнала, а когда узнала — заплакала и повела Лаврентия домой отмывать и кормить.
Чистый Лаврентий сидел в кухне и курил. А Светлана в фирменном фартуке с тигром хлопотала у плиты.
Лаврентий вспомнил, что купил этот фартук бывшей жене и заулыбался.
Антон Никитин
ПОВЕСТЬ О НЕКОЕЙ БРАНИ
«Сочинена эта повесть о некоей войне, случившейся за наши грехи в благочестивой России, и о явлении некоего знамения в нынешнем последнем поколении нашем».
Евстратий(?) «Повесть о некоей брани»
«Вышли два больших змея, готовые драться друг с другом; и велик был вой их, и по вою их все народы приготовились к войне».
Есфирь
«…ажно царевич лежит во Спасе зарезан и царица сказала: зарезали-де царевича Микита Качалов да Михайлов сын Битяговского Данило да Осип Волохов».
Свидетельство игумена Савватия
С самого утра началось. Прохожий у метро остановился, пытался закурить, был неосторожен. Ветер все время срывал огонек со спички, а — то ли с перепою, то ли от нервов — прикрыть не догадывался долго. Потом весь сжался, догадался наконец-то, и все так быстро произошло. Сгорел он, только одежда осталась коробом стоять, а потом с грохотом рухнула. «Был бы в сапогах — так бы и остался стоя, а тут ботинки — у брючин сцепления никакого, вот и упал, как дерево», — подумал Петр, а из брючин — пепел — ручейками — рассосался — по снегу, по снегу и исчез; только и пользы, что ходить по скользоте легче стало — зола все-таки. Стали прохожие собираться, смотрят — сгорел весь, даже пепла уже толком не собрать, кто-то в милицию побежал звонить. Слева в толпе — про скрытую энергетику, справа — про запой и водку, а Петя потрогал кожух, сказал, что, мол, орехи, они завсегда так — скорлупа если твердая, то внутри — почти точно — пусто, и думать начал, почему одежда задубела. «Наверное, у них сначала кровь вся вытекает, засыхает тут же, а что высохнуть не успело — морозом прихватило — и ага».
В ботинках, верно, осталось, что родственникам снести, их сразу накрыли газеткой, кирпичом от ветра придавили, но Петр видел, что зола сочится еще, через шнурочные дырочки, что ли, а говорить — лень. Потом милиция приехала, взяли одежду, заломали рукава, чтобы влезло в воронок, ботинки тоже взяли и уехали. Бабка охнула сбоку, заковыляла дальше, Петр подумал, подумал, не понял, чего расстраиваться-то — так все хорошо и чисто произошло; оглянулся вокруг — смотрит — пачка сигарет лежит в стороне, синяя, раскрытая, как с желтыми зубами. «Точно, — подумал Петя, — он ее как-то в руках ухитрялся держать, вот она и выпала, сам он как труха рассыпался, пальцы тоже, и все». Подобрал пачку, пошел в метро — вроде на работу опаздывает — первый день после отпуска. В переходе все размышлял, зачем взял, не курит ведь, но не класть же на место, не помешает. Достал из кармана «единый», еще удивился, что по размеру на пачку похож, показал мужику на входе, только потом опомнился, вернулся; спросил про бабушку, бабушка все время тут стояла. Выяснилось, что ушла на пенсию, Петр расстроился страшно, залез в поезд и стал вспоминать ее, и как она ему головой кивала, и какая аккуратная была.
«Вот надо же, привык я к бабушке, она вроде мне как родная стала, может, я ее и полюбил даже».
Классический дебют должен переходить в ничейную раскладку. Семен с Кириллычем для начала схлестнулись на вечном вопросе о невинно убиенном царевиче Дмитрии Углицком. Семен, ненавидящий царизм, раз за разом бросал восьмилетнего отрока в приступ эпилепсии, да на ножичек, Кириллыч противостоял, простраивая милые его сердцу интриги до самой златоглавой столицы, и при помощи Битяговских кромсал мальчишеское горло от уха до уха.
Пили сидя на ящиках из под яблок, молча, как всегда. Семен, более свободный, иногда ходил проверить давление в котлах, Кириллыч в это время вплетал в затейливую аферу Марию Нагую, Бориса Годунова и строгого следователя Шуйского. Шуйский, правда, был ненадежен — сам не знал, чего ему надо и в любой момент был готов поверить Семену с дурацким самоубийством.
«Ну пойми же, — внушал Кириллыч через века, — Я сам видел, как они его резали».
Приходил Семен и продолжали пить. Историю оставили нераспутанной, уже совместно, как в особо сложных делах, напустив туману.
— Пар нормальный? — спрашивал Кириллыч, хотя мог просто повелеть ему быть нормальным или, на худой конец, узнать, не спрашивая и не вставая с места, но считал это делом презренным и мелким для себя.
— Нормальный, — отвечал Семен, соблюдая этикет и храня профессиональное достоинство.
Заново прикладывались. В углу было еще много, потом можно было отнести посуду.
Завязав на истории окончательно, даже чокнулись, звон стекла породил в Семене очередную идею, и он сотворил из кучи песка клона, которого отправил по городу с неясной еще целью, теплилось слабенькое ожидание, что сюжет выйдет позже, но Кириллыч испепелил творение Семена, за что пришлось немедленно принять. Потом украли у американцев (еще тогда, в сорок пятом) атомную бомбу, подумали, что делать с ней определенно нечего и вернули на место — случайно получилось единство помыслов, так изредка происходило, но говорило о полном истощении.
Профессор Батогов сидел в архиве третий день и пытался понять.
С детства у Ивана Филипповича было отвращение к мудростям типа «рано вставать — рано в кровать». Полная бессмыслица скрипящей доской распирала его осушенные долгой работой мозги и мешала соображать. Сейчас в голове сидело что-то хрестоматийное вроде «Каждому воздашеся по делам его», хоть и не совсем понятное, но столь же омерзительное по скрипу.
С самого утра профессору показалось, что он набрел на какое-то доказательство давно мучившей его проблемы, но поленился записать, теперь же, перечитывая хронику на месте «И в этой короткой жизни он устроил себе потеху, а для своей будущей жизни знамение вечного своего жилища…», он думал, что же могло ему прийти в голову при чтении этой фразы. Но прошлое вновь закрылось туманом. «Ах, как бессмысленно все, как все бессмысленно и пошло!» — профессор ходил по комнате широкими шагами от полки — к полке. «Нет ничего хуже!» Отбросив какую-то рукопись шестнадцатого века, Иван Филиппович пошел обедать.
Петр пришел, когда уже были хорошие. По крайней мере, две уже выжрали и сидели на ящиках, пялясь друг другу в бессмысленные глаза.
Петр прогулялся по подвалу, проверил пар, как всегда, нормальный — привыкал к рабочему месту после долгой отлучки. Артерии центрального отопления пронзали пространство подвала с тихим дрожанием и утробным теплом, в дальнем углу асбестовым куском бился котел, как сердце великана. Только сзади, у Семена и Кириллыча, было достаточно светло, будто они сидели в гигантском глазу, окошко под самым потолком и лампа дневного света обливали их лучистыми потоками.