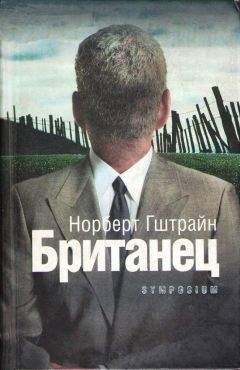— Я все еще жду, что ты объяснишь, почему всех нас пригласил в путешествие, а не отправился отдыхать со своей секретаршей.
И он не отказал себе в удовольствии, ответил одной из тех фразочек, какими — так он, видимо, думал — может блеснуть в роли немолодого щедрого хозяина, которую он играл:
— Я счел, что вам будет полезно немного проветриться. Свет повидать еще никому не вредило.
И стало ясно: ерунда, он скрывает от тебя истинную причину своего решения, и ты попытался выманить его из укрытия:
— Уверен, это как-то связано с тем, что происходит дома.
И он резко опустил подзорную трубу и смерил тебя пристальным взглядом, так что ты инстинктивно отвел глаза.
— Ты чем-то очень встревожен, Габриэль, — сказала Клара. Это было глубокой ночью, она стояла рядом с тобой на верхней палубе, держа тебя за руку. — Мне кажется, ты чего-то боишься.
А ты смотрел вниз, там прямо на досках лежали бок о бок тела, это были люди, мужчины — в одной стороне, женщины — в другой, все, кто опять не мог сомкнуть глаз в каютах, где вот уже несколько дней воздух был мертвый, удушливый, дышать им было немыслимо, легкие наполнялись сухим жаром, хотя капитан снова и снова пытался поставить корабль под ветер; ты смотрел на белые простыни, под которыми, будто в беспокойном лихорадочном сне, ворочались тела, и на белых покрывалах ты видел синеватый отсвет звезд, которые, казалось, все до единой, находились не на своих привычных местах, и ты с трудом совладал с дрожью, всякий раз охватывавшей тебя, когда ты смотрел на звездное небо, и подумал о доме, вспомнил, что промелькнуло в мыслях в самый первый день вашего плавания: все может рассыпаться, исчезнуть без возврата, если вы слишком долго пробудете вдали от дома.
— Что за чепуха, Габриэль! — сказал отец, — Мы же скоро вернемся, будь спокоен, ничего не упустишь.
Но ты не ослабил хватку:
— Ты что-то скрываешь!
И он взял саркастический тон:
— Ну точная копия своей матушки! Она же вечно волнуется по пустякам, средь бела дня ей мерещатся жуткие привидения!
И ты, словно только и ждал этой реплики, стал обшаривать взглядом всю бухту из конца в конец, не замечая, что лоб у тебя покрылся испариной; ты щурился, напряженно всматриваясь в заросли на берегу, как будто оттуда вот-вот бросится толпа дикарей и градом стрел осыплет лодки, которые уже подплывали к берегу.
Ты почувствовал, что Клара прижалась к тебе всем телом, погладил ее по плечам, а она заговорила опять о том же:
— Объясни, ну что с тобой?
И ты сказал:
— Ничего.
А она, еще настойчивее:
— Я знаю, что-то происходит!
И ты со страхом подумал: ей уже не уняться, вот так она и будет требовать ответа, и, чтобы заставить замолчать, ты прижал ей, как ребенку, палец к губам.
— Да правда, ничего важного.
И некоторое время был слышен единственный звук — ее дыхание под твоей ладонью, а потом снова раздался ее голос, она что-то крикнула, что — ты не понял, потому что в ту же минуту в ушах у тебя раздался голос девицы, с которой летом передвойной ты заговорил на улице где-то в Мэйфэйре, несколько слов, застрявших в памяти, слов на жестком, отрывистом английском, таком же, каким был и твой английский в первые недели жизни в Лондоне:
— Десять шиллингов, дорогуша, — сказала девица и медленно, как сигаретный дым, выдохнула воздух. — Дешевле никто не даст, разве что сам себя обслужишь!
И Клара:
— Габриэль, ты меня слышишь?
И девица:
— Десятка!
И она уже прихватила тебя рукой и начала медленно поглаживать, и засмеялась, и посмотрела на тебя; смеясь, она не разжимала губ.
— Ну-ка, что у нас тут за десять шиллингов?
И Клара:
— Габриэль, ты меня слышишь?
И девица, вдруг по-немецки:
— Что тут у нас для фюрера?
И Клара:
— Габриэль, что с тобой?!
И девица:
— Ты ведь мой землячок, а?
И ты протянул ей деньги, которые дала старуха на Майл-Энд-роуд, чтобы ты мог куда-нибудь сводить свою подружку; ты стиснул пальцами волосы у нее на затылке и закрыл глаза.
— Давай, живо, да смотри, потише!
Отец стоял рядом и молчал, а лодки уже достигли цели, и ты взял у него из рук подзорную трубу и стал смотреть — гребцы сошли первыми, по мелководью побрели к носу лодок, потом, напрягшись всем телом, потянули их к берегу, словно непокорных животных, наконец все лодки зарылись носом в песок, лениво накренившись набок. Всего две-три минуты прошло, и ты увидел: черные фигуры замелькали в белой пене прибоя, начали переносить пассажиров на берег — по двое, сцепив руки «стульчиком», несли дам, которые безропотно обнимали их за шеи и сидели, точно куклы, любая из них могла быть твоей матерью, такими одинаковыми они казались издали; ты увидел: гребцы подхватывали мужчин и мелкими шажками бежали со своей ношей к берегу, и ты подумал, что во время вашего плавания отец насмешливо отзывался о пассажирах, говорил, что они готовы на дикие сумасбродства, швыряют деньги на развлечения всей компании, на забавы, от которых на суше брезгливо скривились бы. Слышен был только плеск волн внизу у борта, больше не раздавалось ни звука, и тебе вдруг стало не хватать отцовского занудного брюзжания, захотелось, чтобы снова он заговорил, спугнул эту тишину и у тебя наконец исчезло бы ощущение нависшей над вами опасности — пусть бы опять возмущался вчерашней вечеринкой в пижамах и ночных рубашках или идиотской затеей — с приходом в каждую новую гавань разбивать супружеские пары и меняться партнерами, пусть бы ворчал, лишь бы не мучила тебя эта беззвучность, эта безжизненность, в точности, как когда смотришь картинки в волшебном фонаре и видишь сценку на пляже и фигурки, неподвижно стоящие на берегу, с которыми ничего не происходит, — или когда, листая альбом с фотографиями, видишь то, чего уже давно нет в действительной жизни, что исчезло, подобно звездам, чей свет достигает земли спустя тысячи и тысячи лет после того, как они погасли.
…Света в каюте почти не прибавилось, когда опять пробили склянки, и свет был каким-то затхлым, все предметы казались шершавыми — шкаф и маленькое трюмо красного дерева, хрустальная люстра и пара плетеных кресел возле умывальника; когда ты открыл глаза, итальянцы сидели на своих матрасах и смотрели на тебя. Откуда-то из глубины доносился шум машины, там словно ворочались громадные гири, и, глядя на итальянцев, которые настороженно прислушивались к этим звукам, — оба гладко причесанные, с мокрыми волосами и ровными, в ниточку, проборами, — ты подумал, что в своих белых рубашечках они смахивают на детей, которым пообещали удивительное представление, — уже давно переставшие верить в сюрпризы, они, чтобы угодить взрослым, притворяются, будто дождаться не могут, когда наконец поднимется занавес. Дождь, кажется, перестал, и ты снова услышал, что по палубе, насвистывая и стуча сапогами, ходит караульный солдат, и еще откуда-то доносились возгласы матроса, но слов было не разобрать, и ты обрадовался, что итальянцы не заговорили, с тобой, потому что больше всего хотелось опять заснуть, отвернуться к стене и забыть все, чего ты вчера вечером наслушался от буфетчика, который будто задался целью в первый же день доказать тебе, что на свете не осталось места, где можно спрятаться.
Сначала он рассказал о том, как использовался этот корабль в первые месяцы войны, но затем весь вечер, будто заведенный, талдычил одно и то же, и ты уже слышать не мог спокойно: вторжение, вторжение! — без этого пророчества, видно, уже не обходился ни один разговор, вот и он заладил, и сейчас у тебя в ушах снова зазвучал его голос:
— Уж поверьте, к вам лично это ни в коей мере не относится, но, знаете, даже в мирные времена я терпеть не мог эту банду!
И, не столько отвечая на твой вопрос — почему, а, скорее, чтобы лишний раз заявить: весь мир сошел с ума:
— Скажем, кто-то из пассажиров обжирается до отвала, не то что другие, или в баре жмотничает, никогда не поставит выпивку приятелям, — не сомневайтесь, это фриц, чтоб мне пропасть!
После этих слов он надолго замолчал, искоса поглядывая на тебя, словно ждал, а вдруг ты, чтобы опровергнуть подобные обвинения, щедро дашь на выпивку.
Вчера ночью ты опять вышел на палубу и ощупью, против ветра, добрался до места, где в дощатой обшивке над бортом был широкий зазор. Звезды на небе исчезли, в темноте едва угадывались очертания холмистого берега где-то за кормой, по правому борту; началась килевая качка, веером брызг взлетала вверх пена, когда нос корабля то зарывался в волны, то вздымался над водой. Вахтенных на фок-мачте явно прибавилось, а на капитанском мостике ты разглядел кого-то в тяжелом дождевике, этот человек курил, не пряча в ладонях огонек сигареты; ты стоял на палубе, пока не спугнул караульный, обходивший с проверкой помещения корабля, но ты еще немного задержался на шлюпочной палубе и все смотрел на того человека на мостике, как будто ничего плохого не случится, пока ты будешь стоять там, не спуская с него глаз.