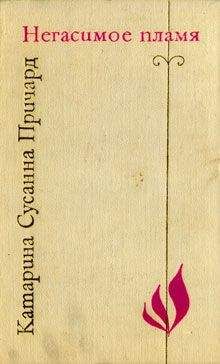Шел дождь. Шатаясь от слабости, он зашел в пивную, проглотил кружку пива и, почувствовав себя лучше, выпил вторую. Пиво ожгло пустой желудок и вызвало позыв к рвоте. Оп бросился к двери, и его вырвало над сточной канавой. Качающейся, неверной походкой побрел он в соседний парк и рухнул на траву. Оп лежал там до поздней ночи, пока полисмен, совершавший обход, не направил на него луч своего фонарика и не предупредил, что ему следует убраться отсюда, если он не хочет попасть в беду.
Стряхнув оцепенение, Дэвид нашел в себе силы пробормотать:
— Спасибо, констебль, — и с трудом поднялся на ноги. Спотыкаясь, он побрел прочь и усмехнулся про себя, потому что ему очень хотелось сказать, что он и так уже в беде по самое горло и не знает, как из нее выбраться.
Бредя под дождем, он смутно помнил, что ему надо найти, где бы поесть. Но густой мрак сомкнулся вокруг, и он не мог найти ни одной освещенной улицы, где была бы какая-нибудь лавчонка или закусочная. Усталость сломила его, он снова тяжело опустился на землю под деревом и так и остался лежать. Как долго пробыл он там, Дэвид не помнил; он лежал, пока не пришел в себя, промокнув до нитки и дрожа от озноба.
Было раннее утро; он догадался об этом потому, что резкие фабричные гудки ворвались в его сумеречное сознание, и он услышал отдаленный и все нарастающий гул и грохот движения. Ноги его одеревенели. Едва он попытался подняться, как острая боль пронизала спину. С трудом он встал на ноги, голова его болталась из стороны в сторону, как пустой шар. Он двигался почти вслепую. «Поделом мне, — подумал он со злобой, — уснул на дороге, как старый пьяница».
Только бы добраться до своей комнаты и сбросить мокрую одежду! — больше он ни о чем не мог думать. Но его скромное убежище казалось ему таким далеким, ему потребовалось так много времени, чтобы дойти до него! Он шел, с усилием передвигая ноги, спотыкаясь, хрипло дыша, и время от времени останавливался, чтобы справиться с приступами головокружения, затемняющими сознание. Добредя наконец до старого дома, выбеленного известкой, Дэвид узнал его по пронзительным крикам Перси и почувствовал огромное облегчение. Войдя в комнату, он стащил с себя мокрую от грязи одежду и повалился на кровать, натянув на себя одеяла. Его бил неудержимо озноб.
Два дня спустя Чезаре с шумом распахнул дверь. М-с Баннинг сказала ему, что Ивенс, по-видимому, болен. Шагов его давно не слышно, а кашляет он так, словно грудь у него разрывается, и бредит, как в белой горячке.
— Si, si[Да, да (итал.).], — сказал Чезаре, — я пойду посмотрю, что с ним.
С этой минуты он взял на себя заботы о больном.
— Тут нужен доктор, — сказал он м-с Баннинг.
Но Дэвид и слышать не хотел о враче.
— Я поправлюсь, — с трудом переводя дыхание, говорил он, — просто я немного простудился, и меня лихорадит. Мне нужно только как следует согреться и отдохнуть немного.
Чезаре знал, что за нежеланием видеть врача часто скрывается страх перед полицией; поэтому он решил сам позаботиться о соседе и делал это со всей добросовестностью. Он умывал его, кормил, ухаживал за ним, как самая ласковая сиделка, с волнением следя, не становится ли больному лучше и не падает ли у него температура. Когда у Дэвида начался бред, он решил, что все-таки следует послать за врачом. Но в ту ночь больной исчез. Чезаре был в отчаянье; он не представлял себе, что могло произойти и куда скрылся Дэвид.
Что привело его к зданию редакции «Диспетч»?
В памяти осталось одно: сколь ни был он измучен и слаб, какая-то непостижимая сила гнала его вперед, только бы куда-то идти, только бы что-то делать. Ему казалось, что он задыхается в крошечной, грязной комнатушке. Он чувствовал, что теряет последние остатки воли. Если не заставить себя выйти на улицу, он и вовсе потеряет всякую способность мыслить. Превратится в жалкое беспомощное подобие человека, в бессловесную колоду и проваляется до конца своих дней в кровати, покуда его не сволокут в морг или в сумасшедший дом. Удрученный этой мыслью, он с трудом натянул брюки, надел ботинки, поношенное пальто, шляпу и поспешил на улицу.
На него обрушились потоки шквалистого ливня. Дождь освежил его. Он ловил ртом прохладные капли, хлеставшие его по лицу. Его замутило от неприятных уличных запахов, и он заторопился прочь. Наконец впереди показались деревья. Он услышал, как шелестят на ветру листья, нежно перешептываясь друг с другом.
Непроглядную темь время от времени прорезал слепящий свет фар промчавшейся мимо машины. Гул города надвинулся на него. Он свернул в сторону, убегая от этого гула, от ярко освещенных витрин, людских толп, трамваев и машин, нескончаемой лентой несущихся по ветреным, мокрым от дождя улицам.
Он брел в ночи, едва ли сознавая, куда и зачем идет.
По обеим сторонам переулков, которыми он шел, высились пустынные в эту нору здания складов и контор. Свернув за угол, он споткнулся о ступеньки безликого квадратного дома и в изнеможении опустился на них, чувствуя, что к горлу подступает тошнота. Потом, когда приступ ее миновал, он пересел подальше, в тень, решив немного передохнуть и собраться с силами.
Пока он сидел, сжавшись в комок, обхватив руками колени, голова его немного прояснилась. Он вгляделся в ступеньки, на которых сидел, посмотрел на вращающиеся двери, ведущие в освещенный вестибюль. Что-то странно знакомое почудилось ему. Он услышал приглушенное постукивание и равномерный гул машин, работавших где-то совсем рядом, и вздрогнул. Затем вскочил, пронзенный внезапной догадкой.
Словно в кошмарном бреду, Дэвид отпрянул назад и уставился на здание, возвышавшееся над всеми другими домами улицы. На верхнем рекламном щите, сплошь из стекла и стали, разноцветными сполохами загорались неоновые буквы. «Диспетч», «Уикли баджет», — прочел он горделивые слова, светившиеся в густом тяжелом тумане.
Ему ли не помнить этих слов, этого здания! Но что привело его сюда? Что заставило вернуться к этому дому, на месте которого некогда в грязной развалюхе ютилась пользующаяся дурной репутацией газетенка и где он сотворил чудо? Он превратил сомнительный листок в солидную газету, добился фантастического роста тиража, заставил правление оборудовать типографию мощными новейшими машинами, пристроил к старому зданию новый корпус, реорганизовал, переоборудовал, модернизировал все от начала до конца, сделав из газеты образцовый механизм по сбору, обработке, печатанию и распространению новостей.
И вот оно, его детище, такое, каким он его создал, и все же не такое! И вот он сам, руками которого создано все это, — такой, каким был прежде, и все же не такой!
В голове был полный сумбур, но одна мысль тревожила неотступно; что именно заставило его прийти сюда? Может, ему захотелось пощекотать свое самолюбие: вот ведь какой был когда-то? Или его потянуло сюда, как тянет на место преступления убийцу? А может, он надеялся здесь, возле этого дома, обрести столь необходимую уверенность в себе, нужную, чтобы бросить вызов неудачам и устремиться к успеху, куда более для него значимому, чем «Диспетч»?
Мысленно он представил себя совсем молодым: вот он одним махом взлетает по ступенькам этого крыльца, толкает вращающуюся дверь, взбегает, не дожидаясь лифта, по лестнице на второй этаж, слышит на ходу бойкие голоса рассыльных: «Добрутро, сэр» — и совсем другие, почтительные приветствия получающих задания репортеров: «Доброе утро, мистер Ивенс»; легкое оживление в конторе, через которую он шел в свой кабинет — бодрый, готовый с головой окунуться в работу, темп которой непрерывно нарастал: спокойный ритм в начале дня и лихорадочная спешка по мере приближения выхода первого выпуска газеты. Щелканье телетайпов, стук пишущих машинок, разговоры по телефону, поток телеграфных сообщений, вибрирующий грохот огромных печатных машин, изрыгающих из своего чрева сотни тысяч аккуратно сложенных, еще сырых, пахнущих типографской краской экземпляров «Диспетч»; орды мальчишек, хватающих пачки газет и разносящих их по всему городу; вереницы красных фургонов, ждущих своего часа помчаться с тяжелыми кипами к газетным киоскам окраин и к поездам, которые развезут их по всей стране.
Так оно и шло — второй выпуск, потом третий, и лишь с выходом последнего, четвертого выпуска в здании воцарялись тишина и покой. Словно судно, заштилевшее после штормового перехода. Из коридоров исчезали рассыльные, машинистки, репортеры. Появлялись уборщицы и принимались наводить чистоту и порядок, чтобы с наступлением дня снова заработал хорошо отлаженный, образцово управляемый механизм вечерней газеты.
Вот как было когда-то. Дэвид отогнал мучительные воспоминания. Он знал, что теперь здесь многое изменилось. Уже после его ухода было принято решение издавать еще и ежедневную утреннюю газету. Тишина и покой, наступавшие после рабочего дня, ушли в прошлое. Здание больше не знало ни минуты передышки. Ни днем, ни ночью не спадало напряжение, создаваемое непрерывной работой людей и машин. Кончала работу дневная смена, приходила вечерняя.