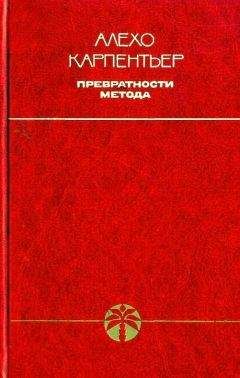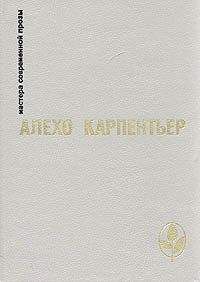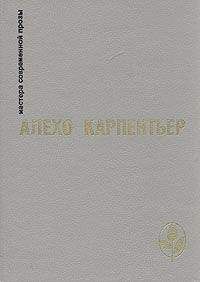Поток хроники убийств, любовных драм и всяких прочих неслыханных казусов не прекращался до наступления Рождества, и самое Рождество, по правде говоря, было из ряда вон выходящим, даже перекрестили его в Christmas[287]. Прекрасную традицию домашних рождественских представлений тотчас же забыли, не устраивали «вифлеемы» из склеенных тряпок, с яслями, с богоматерью, святым Иосифом, ослом и быком и кортежем пастырей — чем богаче жилище, тем больше выставлялось человеческих фигур, пришедших поклониться Младенцу, толстощекому, как херувим, возлежавшему на ложе из благоухавших свежих листьев гуайябо.
Семьи не позаботились подновить — подкрасить и подлакировать — прошлогодних святых, подклеить сломанные фигурки, подвесить ангела Благовещения на позолоченном шнурке под серебряной звездой, прибитой к потолку. Странный был тот год: сельва в наступлении — подобная тому лесу, что наступал на Дунсинан[288], — продвинулась к Столице. В атлантические порты прибыли тысячи елок из Канады и Соединенных Штатов, принесшие чужие запахи и в эту Столицу, чтобы в богатых кварталах возвыситься в праздничном убранстве — стеклянные шары, золотистые гирлянды, искусственные побеги виноградной лозы, закрученные штопором свечки, бумажные колокола, ватный снег. Появились какие-то удивительные косули с ветвистыми рогами, никогда не виданные в стране, их называли северными оленями; они тащили санки, нагруженные подарками. А в дверях магазинов игрушек встали бородатые старики, одетые во все красное, которые именовались Санта-Клаусами, — люди их прозвали Сантиклозами. Национальные рождественские праздники — праздники колониальных времен, вчерашние и всегдашние — в один день были заменены рождественскими праздниками заграничного Севера. В том году не выходили на улицу шумные ватаги с песнопениями вильянсикос и бубнами, ранее, бывало, посещавшие соседей под припев: «Тук-тук… Кто ты?.. Мирные люди мы»; певцы под конец уже не могли идти — ползли по улицам, по горло набравшись праздничного агуардьенте и всякого прочего спиртного, что было выпито в награду за их благостную весть — о явлении Мессии: опять и опять, он даже находится среди нас.
И монотонные напевы былого в домах добропорядочных были заменены музыкальными ящиками, наигрывавшими мелодии «Silent night, holy night»[289] или «Twinkle, twinkle, little star…»[290]. Встревоженные этим неожиданным преобразованием рождественских праздников, священники в своих проповедях на заутрене, которые прихожанами с грехом пополам прослушивались, клеймили Санта-Клауса как еретическое порождение, изобличали внедрение у нас саксонских обычаев; убранством Ели, по утверждению проповедников, преследовалась цель насадить у нас языческие нравы германских племен, господствовавшие тогда, когда мы уже слышали божественные голоса амвросианского пения в расцвет евхаристических торжеств, а германцы еще бродили по своей сельве, дикие, лохматые варвары, коих видел Юлий Цезарь, — в рогатых шлемах, пивших медовуху и поклонявшихся Омеле и Остролисту. К тому же ни в одном из христианских святцев нет такого Сантикло, приносящего детям игрушки за тринадцать дней до того, как волхвы, согласно принятым у нас обычаям, занялись бы этим делом. Испанские лавочники, не успевшие выгрузить валенсианских и галисийских кукол, глиняную кухонную утварь и качающихся лошадок в Пуэрто Арагуато, протестовали против предательства конкурентов, которые начиная с двадцатого декабря заполнили витрины механическими махинами, головными уборами индейцев-команчей из перьев, вращающимися столиками для спиритических сеансов — представляете! — и ковбойскими доспехами: техасская широкополая шляпа, шерифская звезда, отделанный бляшками пояс и пара пистолетов в кобуре с бахромой… Кто-то сказал, что Сантикло — не кто иной, как святой Николас. Однако знатоки жития святых утверждали: ни святой Николай Мирликийский, покровитель России, ни святой Николай Великий, первый папа этого имени, никогда и ничего общего не имели с торговлей игрушками. И, наконец, кто-то даже задался ироническим вопросом в статье, не замеченной цензурой: а этот Сантикло в колпаке, чем-то напоминающем фригийский, несмотря на белую оторочку; одетый во все красное, не является ли неким «Красным» в самом опасном смысле слова? Однако боком вышла журналисту его двусмысленная острота: началась уже Страстная неделя, а он все еще сидел в компании сводников на Тринадцатой галерее Образцовой тюрьмы.
И если странными были последние рождественские праздники, то еще более странной тогда была Страстная неделя, потому что во время ее, вместо того чтобы третьего мая отмечать день Святого креста, по всей стране была объявлена Забастовка.
Все разгорелось в Страстную, «зольную» среду — никто и не предполагал такого — с небывалой стачки батраков на сахарных плантациях и сахарном заводе «Америка»; рабочие отказались в оплату за свой труд принимать чеки, обмениваемые на товары. Вскоре движение распространилось по всем сахарным заводам. Были мобилизованы сельская жандармерия, конная гвардия, провинциальные гарнизоны, но и они ничего не могли предпринять против людей, которые не устраивали демонстраций, не буянили, «не нарушали общественный порядок», лишь на работу не шли и продолжали спокойно отдыхать у дверей своих жилищ, под аккомпанемент народных инструментов — бандурий, куатро или гитар — напевая:
Тростник я не рублю,
пусть ветер его рубит,
иль женщины пусть рубят,
сминая на ходу…
Эту стачку рубщики и рабочие сахарных заводов выиграли. А в Святую субботу началась забастовка шахтеров из Нуэва Кордобы, протестовавших против незаконных увольнений; за шахтерами поднялись стивидоры Пуэрто Арагуато и грузчики Пуэрто Негро…
Совсем как при тропических заболеваниях то возникающие, то исчезающие волдыри попеременно и самым непредвиденным образом покрывают краснотой плечо и, перед тем как перейти на правую ляжку, поражают левое бедро, вызывая сыпь в тех уголках человеческого тела, где, по учению древних мистиков-каббалистов, таилось местоположение «Венца», «Разумения», «Сострадания», «Милости», «Основы», — так и на карте Республики красная сыпь высыпала внезапно, без каких-либо предвозвестий, там и тут, на Севере и на Юге, где наливались золотые плоды какао, дымились ямы угольщиков, зрели бананы, раскрывались листья табака, где динамитом взрывали скалы. Ничто не могло сдержать эпидемии; ни к чему не приводили предупреждения о репрессиях, запугивающие эдикты, приказы, мачете в руках солдат, сверканье примкнутых к винтовкам штыков.
Люди оценили грозную силу инертности, скрещенных рук, молчаливого сопротивления, Когда же под ударами прикладов их заставляли пойти на поля или на фабрики, они шли туда, преисполненные решимости работать плохо, выдавать продукции мало, прибегая к всевозможным уловкам, чтобы привести в негодность механизмы, остановить краны, подпилить звенья в цепи, а то подбросить пригоршню песка в ось ведущего колеса или в ствол поршня. Поговаривали, что Студент — этот «студент», слух о котором распространялся более того, чем он заслуживал, — всегда активный, хотя и невидимый, непоседливый и вездесущий, скрывающийся неизвестно где и, однако, открыто дающий о себе знать, перемещающийся из долины в горы, из рыбачьих портов на лесопилки Жарких земель, был подстрекателем, застрельщиком всего происходящего.
А сейчас становилось понятно, что не он один занимался насколько разнообразной и вместе с тем настолько строго продуманной деятельностью; многие — их было значительно больше, чем это, видимо, предполагалось, — применяли его тактику, пользуясь теми же приемами, взяв на вооружение те же методы. «Они действуют в ячейках, — говорил Доктор Перальта, желая растолковать всё термином, значение которого Глава Нации не сразу уяснил. — И для ячеек тех, что в Образцовой тюрьме», — добавил он., «Ячеек там, действительно, уже не хватает для всех… (Тот даже попытался рассмеяться.) Да, я превратился в главного владельца отелей в Республике». И, нетерпеливо полистав «Анти-Дюринг», «Святое семейство», «Критику Готской и Эрфуртской программ», все еще разложенные в беспорядке на его столе, он сказал: «Здесь ничего не говорится о ячейках. Ничего не упоминается о них и в «Манифесте». Единственно, что совершенно ясно, так это на предпоследней странице: «Коммунисты поддерживают любое революционное движение, направленное против существующего социального и политического порядка…»
В те дни Доктор Перальта доставил Президенту редкое издание, поступившее среди корреспонденции: речь шла о газете. Но о газете необыкновенной, какой еще не видывали в этой стране: она была напечатана на тончайшей бумаге, на восьми страницах, форматом одна шестнадцатая, с виду похожая на брошюрку, очень легкая по весу, не тяжелее обычного письма. Название простое: «Либерасьон» — «Освобождение». Великолепно набранная, сверстанная по четыре колонки на полосе и столь же понятно читаемая, как словарь. Первый номер нового издания открывался редакционной статьей, направленной против режима, — в суровом тоне, без лишних эпитетов, ясным и метким слогом, сухим, как удар бича. «Это нечто новое», — пробурчал Глава Нации, выслушивая кое-что более болезненное, чем та сверхругань, необузданно креольская ругань, в которой обрушивались по его адресу сторонники Луиса Леонсио Мартинеса. Далее следовала подробная информация о недавних актах насилия, совершенных полицией, с указанием имен жертв, а также имен полицейских агентов. Затем — серьезный анализ последних забастовок, оценка успехов и промахов, практические выводы. А на развороте — и это было наихудшим! — перечисление, столь подробное и точное, с датами и цифрами, что это, несомненно, могло быть сделано лишь при ознакомлении с документами, хранимыми в глубокой тайне: темные делишки самого Президента, его министров, генералов и других приближенных в течение последних месяцев.