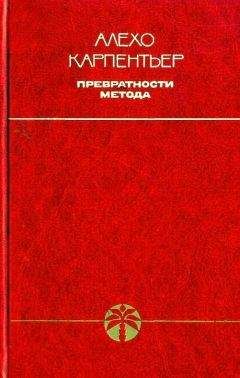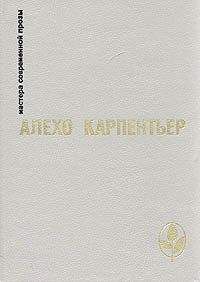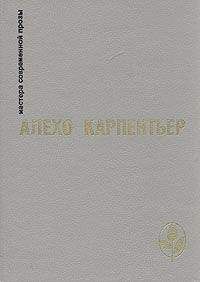Не успели встревоженные души успокоиться, как в табачном складе на окраине города вспыхнул грандиозный пожар — и языки пламени были красными, ослепляюще ярко-красными. Прибывшие на завывавших пожарных машинах пожарники очутились перед морем бенгальских огней, разожженных непонятным образом, и праздник огня завершился веселой перестрелкой взрывавшихся шутих. На следующий день в некоторых газетах, явно обманутых в своем желании воздать, должное усопшему, появились траурные объявления с подобающей сентенцией: «Requiescat in pace»[294], — по поводу кончины официальных лиц, которые, однако, благополучным образом продолжали здравствовать.
Так начались времена мистификаций, злостных шуток, злоязычных слухов, преследовавшие; цель — создать атмосферу замешательства, беспокойства, недоверия и недовольства по «сей стране. Кое-кому по почте присылали черепа; траурные венки поступали туда, где не было покойника; в полночь звонил телефон, уведомляя, что отсутствующий хозяин дома умер от инфаркта в борделе. Были и анонимные письма-послания, составленные из вырезанных печатных букв, с угрозами похищения или покушения; были и сигналы — почти всякий раз достоверные — о факте гомосексуализма или адюльтера, были и ложные известия о мятежах в провинциях, о разногласиях в Высшем военном командовании, о неминуемых банкротствах, о закрытии страховых компаний к о предстоящем вскоре введении рационирования продуктов первой необходимости.
Распространялись — правда, в меньшей степени — слушки, вызывавшие скопления публики, очереди, протесты столкновения в полицией, а также фальшивые извещения о выгодном обмене — швейные машинки за прохудившиеся кастрюли, швейцарские часы за старые инструменты, велосипеды за ручные тележки — в магазинах богатой клиентуры или в только что открывшейся American Grocery![295]. Не то приглашались рабочие с обещанием выплаты приличного жалованья на давно закрытые фабрики.
«Не потребляйте мяса скота, зараженного ящуром», — предупреждала листовка, кем-то пущенная в ход в полдень. «Национальный банк приостанавливает операции», — гласила другая листовка, обнародованная под вечер с тем, чтобы назавтра с утра собрать людские толпы у кассовых окошек. Взбудораженной стала жизнь в городе — лихорадили выдуманные новости, перепутанные адреса, переключенные провода, и телефон морга почему-то соединялся с телефоном кабинета премьер-министра, а звонок по телефону из дома терпимости будил на рассвете нунция Ватикана. Тот, кто заказывал в Нью-Йорке рояль «Стейнвей», обнаруживал внутри инструмента обезглавленного осла; тому, кто покупал пластинку Тито Скипы — тенора, которым здесь восхищались, ведь он пел и по-испански, — приходилось выслушивать поток отборной ругани в адрес правительства, для этого надо было только поставить иглу на диск с эмблемой американской граммофонной компании «Голос его хозяина». И на этом еще не кончалось — случались и более активные действия.
Некие возмутители спокойствия, с каждым днем все более удалые, вспышками магния вызывали переполох в кинотеатрах, разбирали трамвайные рельсы, перерезали электропровода, оставляя полгорода без света, чтобы спокойнее разбивать камнями магазинные витрины… Это было подлинно загадочное войско — подвижное, осведомленное, инициативное и коварное, которое теперь действовало повсюду, чтобы дезорганизовать организованное, подорвать административный аппарат, держать власти в постоянном напряжении и прежде всего нагнетать состояние тревоги. Уже никто никому не верил. И полиция, бессильная, несмотря на приумножение числа агентов, детективов, доносчиков, провокаторов, шпиков, секретных наблюдателей, всегда попадала мимо цели, ни разу не могла установить подлинных зачинщиков этих беспорядков.
Еще две бомбы взорвались во Дворце, хотя при входе в здание посетителей тщательно досматривали и каждый пакет, поступающий извне, проверяли. А поскольку кого-то нужно было обвинить — тем более что никто из официальных лиц не хотел признаться в собственной несостоятельности, — то подыскивали более или менее серьезные обоснования, чтобы утверждать: инициатором всего, мастером адских выдумок, хозяином тайных механизмов был не кто иной, как пресловутый Студент. Однако передовицы «Либерасьон», — никем, естественно, не подписанные, — свидетельствовали, что необычные происшествия, сеявшие панику среди обывателей, не имели ничего общего с деятельностью коммунистов: «Мы не прибегаем ни к розыгрышам, ни к мистификации, чтобы вести далее нашу борьбу». И в более креольских выражениях продолжали: «К подлинным революционерам не относятся завсегдатаи притонов, скандалисты или гомосексуалисты». А рядом с этим в рамке помещалась цитата из неизменно строгой антологии марксистских концепций: «…человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия её решения уже имеются налицо…» («К критике политической экономии. Предисловие»).
«Я начинаю думать, что… — бормотал Президент в замешательстве: — …что этот прохвост говорит правду. Он преследует иные цели. Он фантазер. Но искренний. Не будет терять время, чтобы по телефону болтать, будто вчера вечером я умер, как Феликс Фор». — «Но бомбы…» — подал реплику Перальта. «Да, бомбы… — откликнулся Глава Нации, которого вновь охватили сомнения. — Коммунисты, как и анархисты, подкладывают бомбы, где только могут. Стоит лишь посмотреть рисунки, иллюстрирующие международную прессу. И всё же…» — «Самое плохое заключается в том, что народ приписывает Студенту все происходящее у нас, — заметил секретарь. — А потому он превращается в живой миф: нечто вроде Робина Гуда, владевшего кольцом Гигеса[296]. А нашим людям — альпаргатникам так по вкусу подобные истории…»
В этом, конечно, он был прав, поскольку много, очень много на дорогах страны встречалось любителей романов Понсон дю Террайля[297] и также — «Отверженных» Гюго, и персонажи их изменяли свои имена, возраст и внешний вид, всегда обманывая своих преследователей. Гастон Леру показал, способности раствориться в окружающей среде некоего злодея в своем много раз переиздаваемом и читаемом романе, «Мистерия желтой комнаты». И на фоне классических образов мятежников, исторических outlaws[298], непреклонных и неуловимых, имя «Студент» не сходило с языка — в казармах, на вечеринках в городских домах, в безыскусных песенках, зазвучавших в деревнях, хотя там, по сути дела, еще плохо представляли себе, что такое коммунизм, и Студента воспринимали как бойца-реформатора, защитника бедных, врага богачей, бич лихоимцев, патриота, возрождающего подавленный капитализмом дух нации; люди в нем видели преемника народных вождей эпохи наших войн за независимость, продолжающих жить в памяти народа благодаря своим благородным и справедливым выступлениям.
Он вездесущ, и слава об этом растет день ото дня: он, одаренный талантом находить неведомые тропы, издеваясь над полицейскими патрулями, заставами, и дорожной охраной, — переносится из шахт Севера на Пристань Вероники, из края лесорубов на необитаемые плоскогорья, где лишь цветет фрайлехон. Легенда о Студенте обогащалась восхваляющими его повествованиями, романсами о его подвигах, что переходили из уст в уста: он мог проскользнуть, казалось, через самые узкие и непролазные для человека щели; он легко перепрыгивал с крыши на крышу, переодевался протестантским пастором, францисканским капуцином, один раз прикидывался слепым, другой раз — лжеполицейским, а то был пахарем, шахтером, погонщиком каравана вьючных животных, врачом с докторским саквояжем, английским туристом, бродячим арфистом, носильщиком больших плетеных корзин, и пока службы государственной безопасности его разыскивали под невероятный грохот мотоциклов, прочесывая кварталы Столицы, вполне вероятно, что он преспокойным образом отдыхал на скамье Центрального Парка — в парике старика, седобородый, в черных очках, уткнув нос в сегодняшнюю газету; некоторые его сторонники — а вообще-то кто знал, были у него сторонники или нет, — там, вдали, где среди камней растут агавы и кактусы, на побережье, где царят водоросли и рыбачьи сети, на полях спеющей пшеницы и на гумне среди снегов, пели ту песенку, что многие годы назад частенько можно было слышать в Мексике:
Нас, аграристов, обзывают голытьбою и ворами,
а мы просто не желаем у хозяев быть быками.
«Хватит с меня мифов, — говорил Глава Нации, размышляя о растущей популярности Студента, мысленный — и неизвестный — профиль которого каждое утро возникал перед его взором за высоким окном кабинета и перед ощутимым присутствием Вулкана-Покровителя. — Хватит с меня мифов. Ничто так не разносится по этому континенту, как мифы». — «Правильно, очень правильно, — высказывал свою оценку учитель лицея, зачастую пробуждавшийся в Церальте. — Монтесума[299] был свергнут мессианско-ацтекским мифом об Одном-Человеке-Светлой-Кожи-который-должен-прибыть-с-Востока.