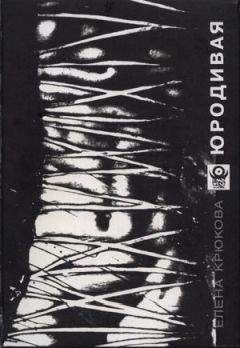Как тяжело таскать живот.
Груз великий, приветствую тебя! Ярмо почетное, что гнешь мне шею, катаешься бешеным тестом в горячей печи. Никогда не пекла я еще таких кулебяк, а может, корочка подгорит. Хожу, хожу, сведет ноги судорогой — присяду. Ух, тяжко волочь телегу пуза, а малец там кувыркается, кулачишками бьет! Боец!.. Пяткой упрется в меня — выступ торчит на боку; я его поглажу, а он кувырок совершит и с другой стороны выбухнет. Играет эдак. Живой… родной. Зачем говорю в мыслях с тобой все время, как с пацаном?.. А вдруг там девка сидит?.. Нет, девки так кулаками не бьются. Нежное, женское медленно ткет ткань времени. Люди, чудесные мои!.. Подайте нам теперь вдвоем. Двое нас. Я песни пою — и он во мне тоже поет, бесслышно ротик разевает вроде рыбы; я хохочу — и он смеется беззубо, и так рад, что радуется мать; я кусаю кулак в раздумье — и он сосет палец, думает подводную думу; а уж заплачу я — там, внутри меня, личико сморщится, скукожится, брови изогнутся страдальчески, и горючие слезы потекут по красной сырой гармошке щечек, мешаясь с водами морскими во брюхе моем, с моими слезами мешаясь…
А живот все ползет и ползет вверх! Уже сугроб вырос! Уже горой вымахивает! Как я рожать-то буду, корова, телица?!.. А страшно. Рожать страшнее, чем умирать. Сил во мне прибыло — волна за волной идет. Без удержу. Подойди ко мне, девочка в капоре, тихенькая, с жуткой язвой на щеке! Подошла?!.. Боишься?.. Не бойся. Я боюсь сама. Но я верю. Верь и ты. Дай поглажу щеку. И еще. И еще. Так. Так. Зеркало у тебя есть?.. Нет?.. Вот мой осколок в котомке, иди, гляди сюда. Видишь? Щека гладкая и розовая, как яблоко на ветке. Мальчики будут целовать тебя. И ты будешь целовать их, и ты забрюхатеешь, как я, и станешь матерью. Беги, беги от меня быстрее!.. Наподдай!.. Беги в жизнь, а смерть тебя сама догонит.
Ксения волокла по широкой жизни громадный курган живота, губы ее то и дело раздвигались в улыбке. Она думала: яблоко — вот сорву, ему нужен сладкий сок. Музыка, в подземном переходе мальчик на деревянной флейточке свистит — дай остановлюсь, послушаю, ему весело будет. Собака бежит навстречу! Овчарка!.. С клыков слюна свисает… Собака, беги сюда, не боюсь тебя. У сыночка моего не должно быть страха перед живым. У живого зубы, клыки, челюсти и жвалы, у живого ядовитая капля под загнутым хвостом и мешочек ужаса за щекой, и все-таки ни бояться нельзя живого, ни бежать от него: я люблю тебя, собака, дай обласкаю твои стоячие уши и сильные лапы, послушаем музыку вместе, можешь повыть песню, я тебе подпою.
Плод рос в ней, и вместе с плодом росла в ней сила, имени которой она не знала и не могла бы дать имя, если б и жадно захотела.
Ночь. Площадь в бусах фонарей. Дождливое лето. Осень у порога — золотые ошметки в ветвях. Ксения стоит под фонарем на сваленных в кучу ящиках. Фонарный тоскливый свет любовно перебирает золотыми пальцами ее косу, прижимается желтыми щеками к ее щекам. Вокруг Ксении толпа. Люди живые: подгулявшие, навеселе. Чье-то насмерть зареванное лицо, веки заплыли, губы набухли. Люди замерли. Молчат. Идут. Глядят на Ксению. Им сказали, им донесли и доложили, кому — кто, кому — как, шепотом или в записке, что на вольной площади, под фонарем, каждую ночь появляется сумасшедшая беременная баба, взбирается на груду ящиков из-под апельсинов и пива, сначала молча выжидает, дышит, сопит, глазами всех обводит, а потом такое начинается!.. Такое!.. Цирк бесплатный!..
Народ стремился увидеть ее. Народ стекался, волновался, роптал. И правда. Стоит дурочка. Брюхо под мешком шевелится. Ветер дунет — рухнет с нищего постамента, того гляди! А крвсива. Если ее отчистить, отмыть… Всмотрись, балда, личико-то свеженькое… Умытенькое… Мало ли водопроводов в Армагеддоне, цистерн с водою… Да нет, брехня, она на рынке клубнику с лотков крадет, ягоды давит и ягодную кашу в рожу втирает!.. Щас… она тебе вотрет… Че молчишь-то, молчанка?!.. Эй, давай уйдем, бесполезное это дело — на круглую дуру пялиться…
Не уходили. Стояли, дергали веками: луп да луп. Считали минуты, часы. Неведомая побирушка могла молчать часами. Но и народ тоже был терпелив. Народ наш терпельник. Не сломать, не согнуть в дугу. Молчали: кто кого. Народ Ксению — или Ксения народ.
Дождик моросил чаще, надоедливее. Из скученной толпы раздавались глухие ругательные выкрики. Ухо Ксении не различало звуков и букв в отборной подзаборной ругани. Ее обнимал тяжелый дальний гул. Гул приближался, налетал порывом ветра, просачивался за шиворот мелкой водяной пылью. Гул был предвестием взрыва. Она закрывала на миг глаза. Во тьме надбровной и подлобной скрещивались фиолетовые мечи, копья и сабли. Яркий лиловый цвет на черноте. Как ты хорош. Как ты жжешь мои сомкнутые глаза. Не исчезай. Вот еще копье. Вот еще сполох. Еще. Еще.
Битва лиловых стрел была предупреждением: скоро. Распахни веки! Выхвати лицо из толпы. Сытый — не обязательно счастливый. Тот, кто улыбается спокойно и ласково, уже смертник, написавший прощальное письмо. Кто ждет ее чуда?! Кто?! Быстрее, страшнее бегали зрачки туда, сюда, ощупывая, метаясь. Вот! Это оно. Зареванное до полусмерти. Так, что и Божьих черт не различишь. Она сейчас покажет толпе силу. Пусть взвоют от чуда. Пусть знают его вкус. А эта, бедняга… сестра… Не бойся. Я помогу тебе.
Фонарь мигал и гас и загорался опять. Глаза Ксении расширились так, что видны были белые окружья вокруг радужек. Глаза надвинулись на толпу. Там, где пульсировали ее нервные черные зрачки, возник и стал рости, разгораясь, нежно-голубой свет. Голубизна. Сияющая синева. Море. Небо. Бесконечность. До головокруженья. До крика из глоток: «С у-у-у-ума со-о-о-ошла!..»
Вместо двух черных дыр — две ярко-синих звезды. Неудержный острый свет пронзительными пучками бил по глазам, головам, шеям, рукам толпы. Свисты и вопли сперва взмыли до неба, до промозглых туч, потом затихли. Ксения качалась из стороны в сторону, как пьяная или молящаяся; ее искривленные губы разлеплялись с трудом, пытаясь вытолкнуть слово, но слова не было, все не было. Слово билось в ней. Слово вздувалось в ней и бугрилось. Слово разрывало ее рот и голову, оно играло и перекатывалось в ее груди, и сообразно тяжкому труду родов чуда младенец у нее в животе, веселясь, ходил ходуном, оттопыривал кулачонками тонкую кожу ее живота, и люди видели, как это невыносимо — носить в себе и не выродить, зажечь в себе и не бросить замерзающим, похоронить в себе, окрестить не успев. Толпа лицезрела вблизи страшные и яростные женские муки, и непонятно было толпе, как спасется эта безымянная мученица, зачем она так страдает, зачем безумные глаза ее горят голубыми огнями, зачем они прибрели сюда, на старую площадь, гляди-ка, здесь и булыжники мостовой еще не выковыряны, наблюдать этот страх, зачем моросит дождь, а все стоят без зонтов и волосы мочат, и капли и ручьи пресного небесного холода стекают по скулам, цыплячьим шеям и оглохшим ушам, зачем весь этот содом и бедлам, зачем все это.
И когда ожидание становилось непереносимым, когда далеко — на окраине — за вереницей улиц и площадей — в черных предосенних полях — несясь по бесконечным стрелам грязно-серебристых рельсов, ножами лежащих на ржаной черноте — гудел одинокий поезд-приговоренный, и крушение ждало его на излете ночи, — рот Ксении распахивался, синие звезды глаз слетали с лица и летели сквозь ветер, ночь и дождь, и толпа, протянув радостные руки, ловила на ладони, принимала долгожданный крик:
— П-ро-ро-чу! Го-лос… мой… го-лос… Бо-жий!
Воцарялась тишина тишин. Слышно было, как капли дождя, словно жужелицы — лапками, осторожно перебирают по шляпам, по кепкам, по лысинам.
— Говорю вам, что должно быть на родной земле! На великой! Когда одни из большого народа накопят в руках много богатства и не будут знать, что с ним делать, они откроют ворота Царства и впустят в покои земли саранчу! Черную саранчу, серую саранчу и рыжую саранчу!.. Их глаза ослепнут от блеска сокровищ, и черную саранчу они примут за черную яшму, а рыжую…
— …за рубины и яхонты! — Детский голосок из толпы прорезал дождь.
— Верно! А серую… самую страшную… они примут за пепел от своих воскурений!.. Тогда другие из народа, те, кто останется зрячим, возопиют: что вы делаете, слепые глупые дураки, неразумные, родные!.. А свои глаза все равно не вставишь… И одни из народа наставят на других копья и стрелы и закричат: еще вы нам станете указывать!.. чай, без вас разберемся, что к чему, не троньте и пальцем наших кладов, нашей яшмы и наших рубинов!.. А другие из народа захотят испить воды, ибо жарко тогда будет, так жарко, что кости внутри тел челочеческих будут плавиться, так высоко будет стоять звезда Солнце, так близко она подберется к родной земле; и умоляюще протянут они руки к одним: дайте, дайте нам чистой воды в наши миски и тарелки, в наши ржавые старые кастрюли и в жестяные бедные ведра, дайте в канистры из-под бензина и в пустые пивные бочки!.. Глотки наши пересохли, и пить мы хотим… И тогда одни из народа смахнут серый пепел от праздничных воскурений прямо в чистую воду, наливаемую в бочки и ведра, во фляги и в бутылки. И другие из народа в ужасе увидят, что это саранча, но будет поздно. Те, кто жаждал, изопьют воды все равно! И вот тогда!..