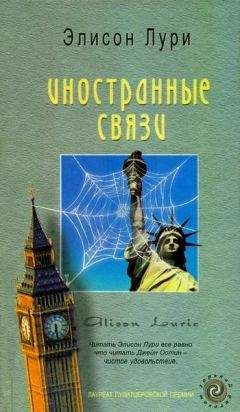Винни не из тех, кто радуется бурно, но сегодня настроение у нее на подъеме, если не сказать больше. Впервые за многие месяцы — или даже за годы — она настолько счастлива. Ей нравится все вокруг: и звери, и посетители зоопарка, и стройные деревца в молодой листве, и сверкающие мокрые газоны Риджентс-парка. Даже двоюродные сестры, против обыкновения, кажутся не скучными, а лишь слегка наивными. Фидо не появлялся вот уже несколько дней, а сама Винни о нем ни разу и не вспомнила. Должно быть, отправился вслед за Чаком в Уилтшир.
Сидя в одиночестве на скамейке, Винни чувствует себя не просто счастливой, но еще и на удивление свободной. Университет далеко, и нет нужды играть роль старой девы-преподавательницы. Смолкли настойчивые, требовательные голоса коллег, студентов и друзей. Более того, английская литература, которой Винни в детстве доверяла всем сердцем и которая целых полвека указывала ей, что думать, делать, чувствовать, к чему стремиться и кем быть, больше не имеет над ней власти. Книги ей теперь не указ просто потому, что она уже слишком стара.
В мире английской классической литературы, хорошо знакомом Винни, почти нет героев старше пятидесяти, а то и сорока. Это и понятно, ведь так оно на деле и было во времена, когда зарождался роман. Тем немногим пожилым людям — особенно женщинам, — которые все-таки попадают в книгу, обычно отводятся роли родственников, а Винни никому не мать, не дочь, не сестра. Людям старше пятидесяти, если они не родственники главных героев, остаются лишь второстепенные, характерные роли, и стариков обычно изображают смешными, жалкими или злобными. Иногда кто-то из них — учитель или наставник юного героя, но чаще он показывает плохой пример, дает вредные советы, а прошлое такого учителя скорее предупреждение, чем образец для подражания.
Авторы большинства романов принимают как должное, что люди, которым за пятьдесят, похожи на старые яблони, что они уже не меняются, не растут, а шрамы прожитых лет останутся у них навечно. В литературе принято считать, что с ними не может произойти ничего значительного, что жизнь больше ничего не дарит им, а только отнимает. Их может поразить молния или подрезать рука человека, они могут захиреть или высохнуть, их скудные плоды могут вырасти безобразными, невкусными или покрыться пятнами. Эти невзгоды они сносят достойно или не очень. Но никогда, даже при самом заботливом уходе, не пустить им новых ростков, не расцвести пышно и нежданно.
Даже в современной художественной литературе на удивление мало пожилых героев. Былые условности по-прежнему живы, и нынешний писатель, как садовод, вырубает почти все старые деревья, чтобы дать простор молодым, которые еще не привиты и не пустили глубоких корней. Принимала эту условность и Винни; долгие годы пыталась она привыкнуть к мысли, что весь остаток ее жизни будет лишь эпилогом к довольно скучному роману.
Но, сколько бы ни было человеку лет, его мировосприятие подчиняется обычным законам оптики. Какую бы малозначительную роль ни играли мы в жизни других людей, для себя самого каждый из нас — центр мироздания. А мир, размышляет Винни, — это вам не английская литература. Он полон людей за пятьдесят, которым жить и здравствовать еще добрую четверть века, у которых предостаточно времени для приключений и перемен, а то и для подвигов и прозрений.
Зачем, в конце концов, переходить на вторые роли в собственной жизни? Почему бы не представить себя исследователем, перед которым простираются новые земли, еще не описанные в литературе, — заинтересованным, увлеченным, готовым к сюрпризам?
А сейчас перед Винни открывается зоопарк, и сегодня он просто загляденье. Полуденный ливень смыл пыль с блестящей листвы и посыпанных слюдой дорожек, а воздух напоил благоуханной свежестью. К тому же благодаря дождю Винни сегодня в новом серо-голубом плаще, длинном, ярком, из мерцающего непромокаемого шелка. Сама она на такой дорогой плащ ни за что не раскошелилась бы, это подарок. В нем Винни кажется выше ростом и красивее и почти гордится собой.
Переполняет ее гордость и за Лондон. Винни радует красота его природы и архитектуры, чистота и спокойствие на улицах, разнообразие магазинов и их очарование, здешняя культура и утонченность — ученый, ироничный слог газет, уважение к истории и традициям, почтение к старости, терпимость ко всякого рода чудачествам, даже преклонение перед ними.
События, которые в другое время привели бы Винни в ярость или уныние, сегодня кажутся лишь неприятными пустяками. Утром пришел свежий номер «Атлантик» с хвалебным отзывом на статью Л. Д. Циммерна, а Винни почти не огорчилась. Бедный глупый Циммерн! Сидит себе в грязном, противном Нью-Йорке и купается в собственной мрачной злобе. Винни представляет эту злобу глубокой, холодной, грязной лужей — точь-в-точь как выложенный камнями бассейн в вольере для белых медведей. Вот Циммерн увяз почти по самый подбородок (в ее представлении — жирный) и не может выбраться. Стоит ему вскарабкаться на скользкий борт, самый большой белый медведь, который сейчас вылез из воды и греется на камнях возле бассейна, бьет его по голове тяжелой лапой, словно мокрой шваброй, и заталкивает обратно в воду.
Денек сегодня чудесный, настроение у Винни отличное, и она щадит профессора Циммерна, не дает ему утонуть. Такая ужасная смерть принесла бы дурную славу Лондонскому зоопарку. Да и медведю пришлось бы несладко — возможно, ему даже грозила бы опасность, узнай смотритель, что его призовой Thalarctos maritimus — убийца. А все-таки славный зверь! Не беда, что он неуклюжий, неповоротливый, а его грубый желтоватый мех не совсем чистый; да и умом он, похоже, не блещет. Зато он такой большой, и морда у него такая славная, веселая, лукавая! По правде сказать, он чем-то похож на Чака Мампсона. Точно такое же лицо было у Чака, когда они на прошлой неделе ходили за покупками в «Харродз», как раз перед его отъездом в Уилтшир.
Это была последняя попытка Винни привести Чака в божеский вид — не только ради него, но и ради себя самой. Если уж ходить с Чаком по Лондону — а ходить они будут немало, — то он ни в коем случае не должен быть карикатурой на американского туриста с Запада, тем более что он уже не турист. Его ковбойский наряд Винни менять не стала, поняла, что это бесполезно, к тому же, как ни странно, в обществе Чак от своего костюма только выигрывает. Ей удалось мало-помалу убедить Чака не таскать с собой столько карт и путеводителей, а фотоаппараты и экспонометры оставлять в гостинице. Винни сказала, что экскурсоводом теперь будет она, а постоянное щелканье фотоаппаратом мешает разговаривать.
Труднее было избавиться от мерзкого полиэтиленового плаща. Объяснять Чаку, какой у него отвратительный плащ, бессмысленно, как в конце концов поняла Винни. Чувство прекрасного у него развито плохо, даже об искусстве он судит почти исключительно по смыслу, а не по красоте форм. (Может быть, думала Винни, точно так же он судит и о ней — ведь для Чака неважно, как она выглядит, ему нравится не смотреть на нее, а ласкать.)
И Винни решила воззвать к его разуму и чувству приличия: отзывалась о плаще пренебрежительно, говорила, что такие носят невежественные туристы и коммивояжеры, сравнила его с занавеской для душа в дешевом мотеле. Но даже когда она в отчаянии сказала, что плащ похож на презерватив, Чака это нисколько не задело.
— Да брось, Винни, — ухмыльнулся он, — что в нем такого особенного? Ясное дело, он неказистый, зато не протекает. И почти новый.
— Неужели? — усомнилась Винни.
— Ага. Я его к турпоездке купил. А к нему конвертик из того же материала, видишь? Можно свернуть и спрятать прямо в карман. Для путешествий — самое то. Хорошо бы и тебе купить такой же.
Увидев его довольное лицо, Винни уж было совсем отчаялась. Оставалась последняя надежда, крайне слабая, учитывая климат Англии. Винни могла рассчитывать только на то, что, если они с Чаком куда-нибудь вместе пойдут, дождя не будет.
А через два дня Чак пришел к Винни обедать и, когда уходил — гораздо позже, с физиономией, довольной пуще прежнего, — забыл у нее плащ. Винни нашла это чудовище в углу гостиной — плащ лежал на ковре, похожий на большую дохлую рыбу. Винни с отвращением подняла его с пола, удивляясь про себя, до чего же он жесткий и при этом склизкий, этот серо-зеленый кусок полиэтилена! Как может Чак, такой привлекательный мужчина, носить эту мерзость? И куда бы ее повесить до следующего его прихода? Только не в чулан в коридоре — в этом уголке без дверей его увидит всякий, кто войдет в квартиру.
Винни втащила дохлую рыбу в спальню, открыла крохотный платяной шкаф и сдвинула в сторону одежду. Хорошенькие светлые блузки, платья, юбки — все из мягких натуральных тканей, — казалось, жались в сторону, подальше от незваного полиэтиленового гостя. Винни уже протянула руку, чтобы их поправить, как вдруг ни с того ни с сего сдернула плащ с вешалки, взяла за шиворот, вышла из дома, спустилась по ступенькам крыльца. Во дворе подняла железную крышку мусорного бака и затолкала плащ внутрь, между зеленым мусорным пакетом и стопкой мокрых газет.