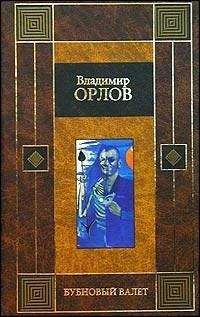Все наше застолье описывать глупо. Да и само оно вышло глупым. А закончилось и вовсе глупейше.
Как отнесется к нашему застолью сосед Чашкин, меня нынче нисколько не интересовало. Но оказалось, что Чашкин и сам гулял. В комнате его звучал аккордеон, а Чашкин ревел: “Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитара-а-а-ю…” Чашкин чрезвычайно ценил цыганского певца Михаила Шишкова и его романтический репертуар. Почуяв наше явление, Чашкин сейчас же выглянул в прихожую и выказал себя гостеприимным хозяином: “Милости просим! Будьте как дома! Дядя Сеня! Василий пришел с гостями. Окажи им почести!” Длинный, тощий дядя Сеня врубил на аккордеоне выходной марш икарийских атлетов из кинофильма “Цирк”. Сеня, личность в нашем районе известная, дядя моего одноклассника, был некогда филармоническим аккордеонистом, но после обидных поворотов судьбы играл лишь на детских праздниках, в пионерлагерях (зарядки и костры), на танцах во дворах, на свадьбах старого манера. В нашу квартиру они пришли с Чашкиным из бани и пивной. Не зная о моих отношениях с Чашкиным, доброжелатели Топилин и Капустин предложили Чашкину и дяде Сене объединить усилия, и те, разглядев наши сосуды, незамедлительно и безоговорочно согласились.
Уже в моей комнате, узнав, что мы с футбола и что я забил два гола (“Один – занес!” – не удержался Капустин), Чашкин забасил:
– Василий у нас большой спортсмен! У них вся порода спортивная! У него сестрица, ой-ой, спортсменка!
– Какая сестрица? – поинтересовался Топилин.
Чашкин подмигнул мне, глаза его стали жуликоватыми.
– Двоюродная. Если не видели, много потеряли! А я видел. Она гостила здесь. Такая красотка! Хоть в мюзик-холл! Подстрижена под Котовского… Пловчиха… Но все равно красотка!
Мои гости с интересом взглянули на меня. Или мне показалось.
– Она не желтая? – спросил Топилин. – Не апельсиновая?
– Нет, – сказал Чашкин. – Скорее шатенка… Была ею… Василий, кстати, где она?
– Не знаю. В Киеве, наверное, в университете, – поспешил ответить я. – Что вы все болтаете? Разлили бы!
– Это верно! – обрадовался Чашкин. – Дядя Сеня, неси наши закуски!
После первой и второй рюмок Чашкин заказал дяде Сене песню про Македонию. Помню только, что в ней были слова, долго не покидавшие меня и Капустина с Топилиным: “И в Македонии, и в Патагонии ловится на червя лишь рыба нототения…” Нототения авторитетами гастрономами приравнивалась тогда к осетрине.
Я редко пьянею, а тогда опьянел. Питье и закуску мы расположили на моем письменном столе (а “обеденного” стола у нас в комнате попросту не было, старики трапезничали на кухне). Разговор протекал бестолковый, вперемежку с интродукциями аккордеона и хоровым пением, и утром я смог вспомнить лишь какие-то обрывки из наших собеседований. Чашкин, полагая, что смешит народ, все приставал ко мне с намеками о красотке-сестрице, не исключено, что теперь и апельсиновой, и интересовался, как спалось сестрице на этом древнем диване, не докучали ли ей пружины? Я мог бы дать Чашкину в рожу, но сообразил, что применением силы несуразности усугублю. А тут Глеб Аскольдович Ахметьев, придремавший было в кресле-раскладушке, очнулся и поинтересовался у меня, что произошло в его отсутствие с Цыганковой. “А я почем знаю!” – возмутился я. “Но ты-то должен знать, кто же еще?” – заявил Ахметьев. “А тебя-то что волнует Цыганкова?” – спросил я грубо. “Ну как же, – протянул Ахметьев чуть ли не мечтательно. – Это самая интересная женщина в редакции…” – “И ты туда же! – намерен был воскликнуть я, но вдруг в раздражении ляпнул (о чем, конечно, пришлось пожалеть): “Ты, Чашкин, думаешь, наверно, что мои гости – хухры-мухры, а вот Глеб Аскольдович, между прочим, общается с самим Михаилом Андреевичем Сусловым и даже охотится с ним в Завидове на кабанов!..” Ахметьев стал бормотать: “При чем тут Завидово, при чем кабаны…” – и очень может быть, давал мне знаки прекратить болтовню, но я не смог удержаться и совершил и для самого себя неожиданную и нелепейшую глупость. Я выпалил: “Нет уж, позвольте напомнить вам, уважаемый Глеб Аскольдович, что истинный большевик обязан помнить о моральных ценностях и не глазеть на вертлявых бабенок!” И сразу же сообразил, что произнес эти слова “голосом Суслова”. Зрачки Ахметьева расширились, а Чашкин, человек партийный, не раз сидевший на разных важных конференциях и активах, смотрел на меня с открытым ртом…
Позволю себе небольшое объяснение. Я уже сообщал, что в студенческие годы и после выпуска подрабатывал (и ради денег, и по интересу) в мосфильмовских массовках, заслуживая порой крупный план и даже реплики. В актеры я не стремился, но нечто в натуре, возможно наследственное (отец некогда участвовал в заводской самодеятельности), лицедейству не противилось. На истфаке прознали о массовках и стали звать в капустники и КВНы, о чем и теперь я вспоминаю с удовольствием. Однажды в ДК на Горах проходило какое-то общеуниверситетское мероприятие (то ли вблизи очередного съезда, то ли после него, с одобрением резолюцией), и нас посетил со Словом М. А. Суслов. Интонации его, “петухи”, фальцетные вскрикивания, особенности волжского говора, старомодный облик идеолога позабавили меня. А вечером в компании я попробовал изобразить гиганта доктрин и истин, и номер удался, вызвав веселье слушателей. Для одного из капустников написали сценку: Суслов отчитывает недоросля за дурное ведение конспектов. Кураторы на репетиции улыбались, но потом эпизод посоветовали убрать, Позже на вечеринках меня подзуживали произнести тост от имени Михаила Андреевича, и я в кураже подпития пожелания исполнял. Должен заметить, что при этом я, как человек благих намерений, никогда не употреблял каких-либо крамольных или обидных для Члена Политбюро выражений. Лет через десять вошли в моду домашние пародии на Леонида Ильича, в пору описываемых событий еще динамичного и с понятийно-приличным произношением звуков. Я же изобразить удачливо Брежнева не мог. А вот М. А. – выходило (редко, правда). И ведь имею баритон. Такие странности голосового аппарата…
Топилин с Капустиным после моего укора Глебу Аскольдовичу оживились и пожелали, чтобы я еще поговорил Михаилом Андреевичем, произвел бы, скажем, для Чашкина и дяди Сени отчет о сегодняшнем матче с “Советской Россией”. Я стал упрямиться, соображая, что этак развлекаться в присутствии Чашкина неблагоразумно, но приятели подзуживали, будоражили меня, я вытянул наугад из книжного шкафа том Владимира Ильича, наугад же открыл страницу, объявил, что до футбольного легкомыслия не опущусь, а вот умные вещи до вас донесу. Страница оказалась 382-я, том девятнадцатый, сочинения “Поворот в мировой политике”. Я читал: “Империалистической буржуазии нужны лакеи обоих видов и оттенков: Плехановы – чтобы кричали “долой завоевателей”, поощряя продолжение бойни, Каутские – чтобы сладеньким воспеванием мира утешать и успокаивать слишком озлобленные массы…” Ну и дальше по тексту.
Сначала мои слушатели смеялись. Потом заскучали.
– Ну ты затянул, как дьячок, – оценил мое искусство Капустин.
– А он и есть дьячок, – сказал Ахметьев.
– Кто? Я дьячок? – удивился я.
– Да не ты! Твой персонаж, – поморщился Ахметьев. – Михаил Андреевич.
Компания деликатно замолчала.
– А что, похоже? – спросил я.
– Похоже, похоже, – обрадовал меня Ахметьев.
– Ты какой-нибудь смешной текст выдай, – предложил Топилин. – Сымпровизируй по текущему моменту. Помнишь, Саша Гомельский рассказывал, как этот М. А. запретил им играть с Тайванем, мол, такой страны нет, и наши остались без золотых медалей.
– Сымпровизировать за него я ничего не смогу, – заявил я. – Не выходит. Могу прочитать лишь серьезный текст.
– Тогда и хватит, – сказал Капустин. – Серега, разливай!
– И давайте выпьем за здоровье дорогого Михаила Андреевича! – встал и поднял граненый стакан Чашкин.
– Я не буду пить за этого идиота! – резко сказал Ахметьев.
– Каждый пьет за что хочет и за кого хочет, – обратился я к Чашкину, словно бы желая успокоить его.
– Ну как же это, как же! – возмущался Чашкин, взглядывая при этом на Глеба Аскольдовича как на изменника и клеветника.
– Дядя Сеня, а отколи нам какую-нибудь “Розамунду”! – попросил Серега Топилин.
И дядя Сеня, видно, что очень обеспокоенный ходом застолья, не дожидаясь уговоров, заиграл “Розамунду”, да так, что нам следовало бы скакать и кувыркаться. Я был тяжел, но все же соображал, что Ахметьев доносил рюмки до рта куда чаще, нежели я, возможно, у него, человека уравновешенного и трезвого, были нынче причины напиться. Он явно хотел сказать мне нечто, я же краем глаза наблюдал за Чашкиным, что-то внушавшим – страстно и в напряжении чувств – Топилину и Капустину. Ахметьев намерен был открыть рот, но я опередил его: “Слушай, у тебя щека чем-то испачкана, пойдем на кухню к умывальнику…” Водопроводный кран в квартире был единственный, тут мы по очереди умывались и брали воду для всяческих нужд. Ахметьев ополоснул лицо и схватил меня за руку: “Нет! Пить за этого идиота! За его здоровье! Да я бы его собственными руками придавил как собаку, этого маразматика, этого скопца и лицемера! Но я не таким создан! Да и что бы изменилось, если бы он сгинул? Таких еще сто миллионов!” Я пытался успокоить Ахметьева, уговорить его прекратить нести всякую чушь, тем более что он не имеет слушателей, я, например, ничего не понимаю, о чем и о ком он высказывается, а потому и не вникаю в его болтовню. Было желание сунуть голову Ахметьева под кран (вода у нас, естественно, шла холодная), но я посчитал, что не стоит оживлять оратора, а следует усадить его в кресло, пусть лучше Ахметьев подремлет, а если заснет, то и переночует у меня. Я отодвинул кресло подалее от не оскудевшего еще стола, объяснил Чашкину со значением: “Это он дурака валяет. Ему позволено”, отвел Ахметьева к креслу, и тот, послушный, и впрямь задремал.