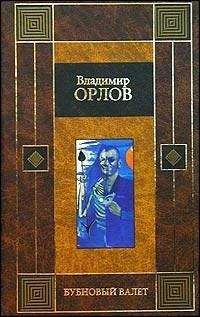Возможно, и меня охватывала дремота. Дальнейшие события застолья моя память держала клочками. Помню, что я включал радиолу и клал на диск Лещенку, настоящего, “на костях”. И Вадима Козина. “Любушку” Козина заводили раза три, умилялись и в сентиментально-влажном состоянии душ обещали друг другу сейчас же пойти на почту и послать телеграмму Козину в Магадан. Адреса Козина, понятно, никто не знал, но все были убеждены, что телеграмму нашу Козину тотчас доставят.
Мне казалось при этом, что Ахметьев спит.
Потом я видел Ахметьева бродившим по комнате, а Боря Капустин дергал меня за рукав и шептал: “Смотри, смотри, что он делает-то!” А я не мог сообразить, что он, то есть Ахметьев, делает. Потом снова пили и закусывали, дядя Сеня заиграл ходовую в те месяцы на танцплощадках “Мишка, Мишка, где твоя улыбка…”, и вдруг возникла неловкость. “Какого Мишку ты имеешь в виду?” – поинтересовался сосед Чашкин у дяди Сени. Ответ не был найден, а дядя Сеня на всякий случай стремительно исполнил “Ехал цыган…” опять же из репертуара любезного Чашкину Михаила Шишкова. Я сидел со склеенными веками и услышал, что музыка прекратилась, а дядя Сеня произнес: “Нет. Все. Ухожу. А то подумают, что это я сделал. А это не я. Хозяин, Василий, подтверди, что это не я…” – “Конечно, не вы, дядя Сеня, – пробормотал я. – Разве вы можете…” Тут же я захотел выяснить, чего он не сделал, но издать какого-нибудь звука не смог.
На следующих клочках видений я обнаружил, что в комнате нет не только дяди Сени, но и Ахметьева с Капустиным. Объяснили: Ахметьев ушел полчаса назад, а Капустин – только что, этот отправился на почту посылать от общества телеграмму Вадиму Козину. И вряд ли вернется.
За окном начинало синеть. Я опустил иглу адаптера на “Осень” Козина. “Наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна…”, мы выпили с Чашкиным и Серегой Топилиным “на посошок”, и я, не раздеваясь, рухнул на диван.
***
Естественно, я проспал.
А мне надо было ехать на Савеловский вокзал, а потом – и в сады-огороды к старикам, доставлять им съестные припасы (мясо, рыбу, колбасу), а отцу – и газеты.
Что-то утром должно было произойти, но не произошло. Но что? Так… Не звонил будильник!
Я поднял голову. На столе будильника не было. И куда же я его засунул? Несколько минут я потратил на поиски будильника, но решил отложить изыскания до более благоприятного для моего организма периода жизни.
Сосед Чашкин ходил по кухне в трусах, матерился и ахал.
– Опохмелиться у тебя хоть осталось? – застонал Чашкин.
– Конечно, осталось, – обрадовал я его. Бросив вовнутрь себя, как лопату угля в топку паровоза, горючее, Чашкин закряхтел удовольственно, поставил стакан и спросил:
– Он что, больной?
– Кто больной?
– Да этот твой Глеб Аскольдович. Охотник на кабанов…
– Почему больной? – удивился я.
– Столько всего в карманы напихал. Дядя Сеня тебе показывал. Испугался, что подумают на него. В медицинских кругах это называется клептоманией. В лучшем случае. И будильник прихватил.
– А-а-а… Будильник… – соображал я. – Ну, насчет будильника… Насчет будильника… Он попросил его у меня… Ему сегодня рано надо было вставать… Завтра вернет…
– Что-то я не помню, чтобы он просил…
– Это еще по дороге, – не слишком уверенно произнес я.
Продолжать разговор с Чашкиным я посчитал делом вредным. Напомнил лишь, что и ему следует ехать в пионерский лагерь к дочкам и жене (Галина устроилась на вторую смену медсестрой). Чашкин советовал и мне для бодростей и оптимизма опохмелиться, но моя натура к опохмельям не была приучена, противилась им, и я, чтобы не сердить Чашкина, ради приличия посидел с ним полчаса, а выпил лишь пива. Остатки коньяка и водки я передал в пользование Чашкину, и он, умиротворенный, заверил меня в том, что из вчерашнего ничего интересного или странного он уже не помнит.
В магазинах я заполнил сумки и дубненской электричкой прибыл в летнее расположение моих стариков. Выходной день прошел в трудах в саду-огороде. Плавал в канале, отоспался и совершенно истребил в себе последствия субботнего застолья. К своим, субботним же, скоморошествам и пьяным речам Ахметьева я относился уже легко, чуть ли не беззаботно, хотя и не исключал возможности неприятностей. Случай же с будильником я трактовал несомненной шуткой Ахметьева, которая в понедельник получит разъяснение.
В понедельник я возвращался в редакцию, не заехав домой, прогулочным шагом (время было) брел от Савеловского Нижней Масловкой, и тут меня взяли под белы руки.
Сначала я увидел метрах в трех впереди себя человека со спортивной или военной выправкой, он шел именно моим направлением и именно моей скоростью, не резвее и не тише. Не успел я выстроить какие-либо соображения по поводу удивившего меня пешехода, как по бокам моим возникли два мужика, резкими, но незаметными прохожей публике движениями они дернули мои руки вниз, прижали их к бедрам, и мы пошагали вперед тремя приятелями не разлей вода. “Спокойно! Без лишних жестов и звуков!” – услышал я шепот, для меня – прогремевший. Я онемел.
Мужики вели (прогуливали!) меня молодые, пониже меня, но крепкие. Если бы они хоть что-то объяснили мне или даже произнесли бы: “Вы арестованы!”, я, наверное, мирно бы подчинился им. Но их силовая наглость вызвала мое раздражение, и я, нарушив правила своей натуры, рассвирепел. Выдернув руки из их клешней, сам захватил их запястья, стиснул их с такой яростью, что чуть не захрустели кости моих конвоиров. Один из них застонал. Тогда передний пешеход обернулся.
– Куда их вести? – спросил я обернувшегося.
– Не шутите с нами, Куделин, – сказал тот, явно старший среди троих. – Сейчас вы сядете в машину. И у нас с вами состоится разговор.
Меня подвели к бежевой “Волге”, пригласили на заднее сиденье. Застонавший конвоир (его назвали Колей) оказался и водителем. Старший уселся рядом с ним. Меня же опекать доверили третьему – мужику с мрачной бандитской физиономией. Так и остались они для меня – Старший, высокий, худой, лет сорока, Коля и Мрачный (этот выглядел повзрослее Коли и меня).
Сразу стало ясно, что разговор состоится вовсе не в машине. Уже через минуты я пожалел о своем “освобождении” и шуточке “Куда их вести?” Кураж мой прошел, а явились страх и ожидание плохого. Понятно было, что шуточку и хрустение костей мне не простят и уж Мрачный и сколько там еще Мрачных со мной поговорят… Меня подмывало узнать, арестован ли я, и если да, то за что, но я не стал спрашивать об этом, мне объяснят своевременно, а молчание в машине словно бы продлевало мое пребывание в мире свободной личностью.
К моему удивлению, “Волга” ехала не в сторону центра, к монументу человеку в распахнутой шинели, чего я ожидал, а свернула на Башиловку и потом в какие-то переулки, в незнакомом же мне переулке остановилась. Молча мы вышли из машины возле пятиэтажного дома из силикатного кирпича, и движением руки Старший сухо и негромко сказал:
– И здесь, Куделин, не вздумайте шутить. Это не в ваших интересах.
На третьем этаже меня ввели в квартиру, по всей вероятности – двухкомнатную и наверняка со всеми удобствами. Во время разговора я находился, по боксерскому выражению, в состоянии грогги и уж точно – в состоянии ошеломления (иные вопросы и обмены мнениями доходили до меня смутно) и, конечно, не был способен внимательно изучить особенности внешностей и натур своих собеседников и подробности обстановки квартиры. Замечу только, что поначалу она показалась мне холостяцкой. Потом она напомнила мне о казенности гостиничных номеров. Потом же мне пришла в голову мысль о сценической выгородке “квартиры” с бутафорией и реквизитом. Запомнились мне какие-то пейзажи на стенах, репродукции и эстампы. А вот цвета и тем более рисунка обоев я не помню.
– Садитесь, Куделин, – предложил мне Старший.
Это произошло в комнате с письменным и обеденным столами, с книжным шкафом и пятнистым ковриком на стене.
– Коля, – обратился к водителю Старший, – а ты сочинил бы нам чаю. Для беседы…
И Коля отправился на кухню.
– Ну что ж, Куделин, – сказал Старший, – а теперь порадуйте нас. Покажите, какой вы актер. Изобразите нам уважаемого Михаила Андреевича.
– Вы от Сергея Александровича? – спросил я.
– От кого? – вроде бы удивился Старший.
– От Сергея Александровича… – повторил я.
Старший взглянул на Мрачного. В глазах его был вопрос.
– Нет, мы не от Сергея Александровича! – хохотнул вдруг Мрачный. – Мы сами по себе!
И он зашептал что-то на ухо Старшему. Тот сдержанно улыбнулся.
– Ну, давайте, давайте, Куделин, – опять заговорил Старший. – Не стесняйтесь. Закатите какую-нибудь речь Михаила Андреевича.
– Я не умею… – пробормотал я. – У меня не получится…
– На днях-то, однако, получилось.
– У меня получалось-то раза два-три всего. И то коли был кураж и после выпивки…