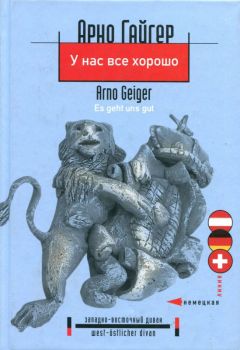Через пять секунд Петер досверливает свою дырку, и картинки возвращаются в спокойное состояние, но потом дрель снова на три секунды все смешивает. Ингрид посылает Филиппа в подвал сказать отцу, что дальше можно будет сверлить только после обеда. Филипп, не снимая оранжевые лыжные очки, выбегает и потом возвращается с известием, что папа управится через три минуты. Фильм тоже. И действительно, восстановленные кадры удерживаются в равновесии лишь на несколько секунд, а потом опять начинают дрожать, потрескивать и шуметь; как будто Петер в подвале чего-то не понял. Mio marito[64]. Ингрид злится на него.
— Что он там строит? — спрашивает она резко.
— Модель Оперного перекрестка, — наивно сообщает Филипп.
Ингрид несколько раз гневно топает ногой. Потом выходит в прихожую, распахивает дверь на лестничную клетку и кричит вниз:
— Проклятье, я хочу досмотреть фильм до конца! Тебе мало того, что твои перекрестки интересуют тебя гораздо больше!
Она поспешно возвращается в гостиную, как раз вовремя, чтобы не пропустить собственное появление в кадре. Ее выход кажется ей на сей раз чрезвычайно коротким и бессодержательным. У Ингрид такое ощущение, что она теперь полностью отрезана от тогдашней девочки. Внешние следы стерлись так и так, как и тогдашние желания и мечты, никакой связи с тридцатичетырехлетней женщиной, бледной от недосыпания, у которой гудят ноги после дежурства, она сидит на кушетке в маленьком домике 18-го района Вены и непонимающе смотрит в телевизор, пока ее собственный мирный призрак образца 1947 года бродит по экрану.
Филипп, прекратив кусать губы, заявляет, что из-за сплошной музыки и других людей так и не увидел маму и хотел бы знать, как фильм попадает в телевизор.
— Электрический ток поступает из розетки, а передача — из воздуха. Она проникает сквозь стены, в противном случае телевизор можно было бы смотреть только на улице. Но как происходит проникновение передачи сквозь стены и почему у людей, живущих позади зенитных установок, экран перечеркивает посередине вертикальный столб, я не могу тебе объяснить. Лучше всего спросить об этом папу, заодно пусть он скажет тебе, почему дрель искажает изображение.
Ингрид принимается готовить, чтобы не было потом разговоров, что она не делает свою работу. Среди свистящих и урчащих кастрюль, пока она режет, шинкует и трет на терке, сдабривает еду пряностями, она заново проигрывает тогдашние сцены. Она двигается своим телом, постаревшим больше чем на двадцать лет, так, как она двигалась тогда, но не уверена, что это получается у нее достаточно убедительно. У нее такое ощущение, что вся ее легкость осталась где-то на обочине.
Даже Кара, собака, войдя в кухню, лишь коротко глянула на Ингрид и снова вышла.
Беседа за едой протекает нормально и благожелательно. Когда Сисси закрывает рот, Ингрид рассказывает какие-нибудь пустяки из больничной жизни, лишь бы не возникла пауза, тишина, как ей известно, угнетает Филиппа. Ингрид сделала наблюдение: когда за столом тихо, Филипп начинает играть с едой. И наоборот, если рассказывают истории, он исправно ест. Так что она рассказывает, как один ее коллега снискал себе похвалу за ее работу. Потом ей приходит в голову, что сестра Гитти рассказала за завтраком, и это она тоже выдает с большой охотой: новый главврач не в курсе, что сестра Марго замужем за старшим врачом доктором Фельдхофером, и главврач, которому ассистировал Фельдхофер, постоянно заигрывал с сестрой Марго. Наверно, возникла ужасная неловкость.
Филипп бодро ест и зачарованно слушает, словно он в цирке. Никому, кроме него, эта история почему-то не интересна.
Филипп говорит:
— Было бы лучше, если бы еды не было.
Мгновение спустя он встает из-за стола, не спросясь, и поднимается на верхний этаж. Сисси использует эту возможность и тоже встает, она просит бинокль, чтобы понаблюдать за птицами в кормушке. Петер, польщенный, достает бинокль и тоже, воспользовавшись ситуацией, смывается в подвал. Ингрид погружает руки в воду, которой заполнена раковина, ставит тарелки в сушилку, чтобы стекали. Временами, когда у нее плохие дни, такие мелочи кажутся ей страшнее войны и зимы.
А теперь затычки для ушей, в такие дни это единственная возможность заснуть на часок. Шум, суета, дети, которые хлопают дверьми, и не дают их друг другу открыть, и ссорятся из-за любого клочка бумаги, и для Ингрид нигде не находится места, кроме как в собственном теле. Она затыкает уши, надевает на глаза повязку, укрывается с головой, темно, как в подвале, и полная независимость от окружения и семьи. С затычками в ушах Ингрид осознает жесткие границы своего тела, ей представляется при этом стальная труба, тяжелая и полая. Наружные шумы почти исчезают, но донимают внутренние: дыхание, сглатывание, биение пульса.
Пугающий эффект — из-за двух маленьких затычек в ушах чувствовать себя запертой — не дает ей заснуть.
В тот день, когда переговоры по Государственному договору пришли к завершению, а Ингрид заявилась домой только в одиннадцать часов, потому что спала с Петером на складе и много времени потратила на пустые разговоры, она ожидала хорошей взбучки. Однако из-за зубной боли ее отца, которая настолько обострилась, что даже начались нарушения зрения, никто ничего не заметил.
Наутро Ингрид сказала:
— Должно быть, я все проспала.
И ее отец сказал:
— Мне бы твой сон.
Ингрид выходит в туалет, и ее мучит жажда. Она видит, что Филипп сидит на верхней площадке лестницы со своей крошечной моделью трактора, тупо уставившись в пустоту. Ей становится его жалко, совестно перед ним, и она вынимает из ушей затычки, одевается и созывает всю остальную семью. Мол, кто хочет проветриться, тому на сборы пять минут.
Сисси ворчит, но подчиняется.
Петер не делает даже попыток, что совсем не удивляет Ингрид. Он ссылается на свою лодыжку, которую подвернул на Рождество, когда сверзился в прихожей с роликов, подаренных Сисси Христом-младенцем. Всегда у него что-нибудь не так.
— Так и быть, прощаем.
Хотя: зачем же притворяться. Если он не может гулять, сделал бы с детьми круг по Вене на общественном транспорте, они этому всегда рады.
Короткий вопрос.
Короткий ответ:
— Но ты ведь уже оделась.
Господин завсегдатай подвала. Он даже не знает, чего лишается, отказываясь провести время с детьми.
Ингрид затягивает резинки на штанинах Филиппа, надетых поверх сапог, протягивает шнурок с варежками через рукава комбинезона, надевает на него шапку с ушами, а на собаку ошейник с поводком и целует Петера в щеку. Петер подставляет ей и другую, так что ей приходится снова целовать его при детях. Не стоит придавать этому значение. Петер обещает отвечать на новогодние телефонные звонки и навести порядок в подвале, где лежит уголь. Ингрид уверена, что через три минуты после их ухода он будет сидеть перед телевизором. Наверняка на каком-нибудь канале есть спорт, тогда ему возместится то, что дети, как он недавно жаловался, подпускают его к телевизору только тогда, когда удобно им. Бедняжка. Как его не пожалеть. Так много людей, которым он нужен только тогда, когда раскрывает свой кошелек.
— Турецкий шанцевый парк[65] или Шёнбрунн? — спрашивает Ингрид.
— Шёнбрунн, — в один голос отзываются дети.
Ингрид тоже больше по душе Шёнбрунн, там дорожки лучше расчищены и по ним легче ходить. Она усаживает детей и собаку в машину, перебрасывается словечком с соседкой, которая вытряхивает из окна скатерть, — тоже женщина на грани распада брака; ее муж, по слухам, пошел по стопам своего умершего отца, что конечно же прискорбно…
Ну, поехали.
Дворец Шёнбрунн кажется на сей раз приплюснутым и массивным. Желтизна[66] фасада поблекла от печного угольного дыма, привкус которого ощущается в воздухе. Аллеи почти безлюдны, живая изгородь покрыта шапками снега, а голые ветки лиственных деревьев четко прорисованы на бело-сером фоне, вороны на ветвях, черные комочки, будто их младенец Христос набросал. Холодно. По небу ползут серые облака, и Филипп, который не захотел оставить дома санки, тянет их со скрежетом по мелким камешкам и замерзшим листьям в утоптанном снегу. Иногда Филипп убегает вперед, переваливаясь в своем толстом утепленном комбинезоне неуклюже, как пингвин. Он то и дело озирается по сторонам. От зоопарка или стрельбища слышны выстрелы и музыка, эти шумы быстро стихают на снегу, как будто донеслись сюда издалека. Чудесная атмосфера, находит Ингрид. Она наслаждается всем этим и говорит себе: вот радость, если Новый год будет такой же чудесный, как этот день. Как знать, может, свинка счастья заодно опять проглотит и все дурные предзнаменования.
Кара таскает за собой на поводке Сисси вдоль и поперек дорожек, и у Ингрид есть время подумать. Только, к сожалению, большого успеха в этом деле она не достигает, по крайней мере, в поисках, как улучшить текущую ситуацию. Слишком поздно она поняла, что это глупо — постоянно стремиться быть хорошей женой. Вместо того чтобы принимать поцелуи и розы как возмещение за свои мучения, лучше бы она вовремя воспитала из своего мужа помощника, чего теперь от него уже не добьешься. Теперь он все с себя свалит по принципу «раз дурак — всегда дурак». Ингрид ведь не спорит, что она и сама виновата, поскольку сама же первая ратовала за все удобства Петера и потом недостаточно энергично пресекала это. При этом (все это очень сложно) она не может припомнить ни одного примера, подтверждающего, что Петер способен извлечь уроки из их конфликтов. Видимо, еще его мать допустила какие-то ошибки в его воспитании.